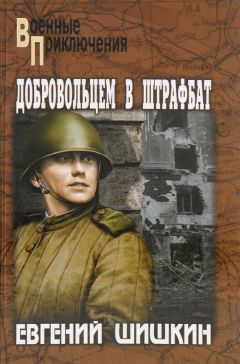— Куды тебя некошной понес! Што ж ты наделал-то, дурачина! — бранилась Танька, хотя ей было жаль отощалого, слабосильного конягу.
Проваливаясь в глубокий снег, зачерпывая его голенищами валенок, Танька уперлась в сани, подсобляя коню.
— Ну, давай вместе. Но-но! Пошел! Тяни! Тяни, милый! — выкрикивала она, упираясь руками, наваливаясь всем телом на застрявшие сани.
Рыжка задирал морду, тряс гривой, перебирал копытами и хрипло ржал от натуги, но не мог сдвинуть зарывшийся воз.
— Но! Но! — все отчаяннее вскрикивала Танька, принималась хлестать Рыжку вожжами, а потом снова, напрягаясь всеми мышцами, хотела приподнять, вытолкнуть сани. — Но! Еще давай! Но! — Она мучительно силилась, надрывалась…
В какой-то момент в глазах у Таньки все разом потемнело. Вся блесткая кутерьма снега, что витал в воздухе, весь солнечный розовый свет, обливающий дорогу и придорожные сугробы, неожиданно померк Танька почти бесчувственно, теряя под собой земную опору, повалилась на сено воза. «Опять я надсадилась… Больно…» — успела подумать она и некоторое время, полулежа на сене, закрыв глаза, провела в забытье.
Очнулась она от хрипа Рыжки, который тщетно топтался на месте, но, видно, пробовал из последних сил сдвинуть сани или оторваться от неподъемной обузы. Пошатываясь, она перебралась на другую сторону воза, осмотрелась. На дороге в оба конца никого не видать — никто, стало быть, не пособит. Танька заплакала. Она уткнулась лицом в мякоть сена и опять провалилась в забытье.
Сколько времени провела, привалясь к возу и спрятав лицо в сухую колковатую траву, Танька не знала; на этот раз в явь ее возвратил холод. Ее знобило. Губы дрожали. Пальцы в рукавицах зябко пощипывало. И солнце уже, большое, налитое закатно-ядовитой багряностью, клонилось к лесу.
Все дальнейшее, что она делала, осталось в сознании блеклыми урывками случайных впечатлений, словно она это делала очень давно или это происходило во сне. С постоянным ощущением боли, размазывая по щекам слезы, Танька вилами, ногами и руками разгребала придорожный снег, сбивала кочки; корчась, подлазила под воз, чистила путь санным полозьям. Затем она понужала Рыжку, ошлеивала его, вскрикивала, опять упиралась в воз, помогала выволочь его на большак Когда сани, растеряв по сугробам клочья сена, выбрались на дорогу, Танька была опять вся в испарине.
Она взяла Рыжку под уздцы, чтоб не упасть самой, и поплелась рядом с ним. Всю дорогу до Раменского она уговаривала себя: «Немного осталось. Совсем немного…» С этим же полусознательным, заученным уговором она открепляла слегу, разгружала сено у своего дома. По-прежнему в одиночку. Елизаветы Андреевны покуда не было. Вилы теперь казались очень непослушными, да и сено будто бы за время дороги намокло и отяжелело. Любое усилие, резкое движение, напряжение мышц оставляли тупую, растекающуюся по всему телу боль. Танька морщилась, крепилась не упасть. С жаркого лба скатывался пот. Она совсем не помнила, как в пустых санях приехала на конный двор, как выпрягала и сдавала колхозному конюху Рыжку, как прибрела домой.
Притулясь у печки на табуретке, Танька, не разболокаясь, долго сидела, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Она отрешенно смотрела перед собой, на свои валенки, на которых потаял снег и лежал крупными каплями на черных тупых носах. Таньку покачнуло в сторону — измождение и нарастающая слабость валили ее. Кое-как Танька сволокла с себя верхнюю одежду, кое-как, с мучительностью, стащила валенки и, перехватываясь руками за печь, чтоб не упасть, добралась до постели. Она долго дрожала в холодной постели, куталась в одеяло, но не могла согреться. Потом озноб опять сменился душным, болезненным жаром.
Откуда-то, из глубины себя самой, в Таньке зазвучали голоса церковной службы, услышанные сегодня: густое батюшкино чтение псалмов и вторящее тонкое пение старушек А перед глазами Таньки явился освещенный кроткими огоньками свеч лик Пресвятой Богородицы с младенцем на руках Свечи горели ровным, медленным и сжигающим огнем. Этот огонь Танька чувствовала в каждой клетке своего тела. Иногда ей с ужасом казалось, что она сама и есть одна из тех свечек, которые горят и восково плавятся пред иконой, и она тоже горит и исходит тихим беспрестанным огнем. Ей хотелось крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, загасить хоть на минуту этот поедающий ее огонь. Ей хотелось умоляюще обратиться к Пресвятой Богородице. Но ни крика, ни моления у нее не получилось. Она только громко, со стоном выдохнула. Однако и наваждение, к счастью, отошло.
Ей захотелось пить. Жажда стала терзать ее. Обветренные губы горели, во рту — жаркая сухость. Жажда становилась непереносимой. Танька попробовала подняться — и не смогла. Внутри от малейшего движения, от любой попытки овладеть собою становилось больно, будто в теле лежал тяжелый, угловатый камень и всякое малое шевеление его причиняло страдание. Танька лежала неподвижно, покорная своей боли, своей жажде, своему огню. Иногда тихая, едва заметная улыбка появлялась на ее печально-смиренном лице: Танька вспоминала о своем Сашке, о своих радостных тайных мечтах. В эти мгновения у нее кружилась голова и казалось, что она летит и летит на стремительных качелях рядом с Сашкой, в обнимку.
Елизавета Андреевна вернулась домой, увидала посреди горницы Танькину брошенную одежду и валенки и испугалась. Осторожно, бесшумно ступая, думая, что дочь спит, она подошла к кровати. Склонилась над Танькой, которая не спала и не мигая смотрела вверх, не замечая ее. Елизавета Андреевна тронула дочь за руку, ахнула:
— Боже! Да ты в огне вся!
— Мамушка? — тихим вопросом откликнулась Танька, наконец-то заметив мать. — Знаешь, мамушка, я бы чего сейчас поела?
Елизавета Андреевна замерла.
— Чего, миленькая? — задрожал в шепоте ее голос.
— Черники с молоком. Помнишь, бабушка Анна ягоды в молоке намнет. Вкусно так было…
— Што с тобой сделалось-то? Што, миленькая?
— Захворала я. Тяжело подняла. Со мной уж бывало это. Чего-то внутри будто сдвинулось… Пить я хочу, мамушка. Ковшик мне подай.
Когда Елизавета Андреевна сбегала до бабки Авдотьи, которая умела «править животы» от надсады, и впопыхах вернулась домой, Танька лежала уже бездыханно. Одна из свечек пред иконой Пресвятой Богородицы догорела… На лице Таньки осталось выражение какой-то вины и какого-то сожаления — наверное, по несбывшейся любви.
Елизавета Андреевна сидела на лавке, с очумелыми глазами, полоумно открыв рот, некрасиво, по-мужиковски опустив руки между коленей на задравшийся подол юбки. Бабка Авдотья шепотом причитала над юной покойной девушкой:
— Не норовитая да с малых лет с молитвой. За всяку работу бралась, дежо это к добру приведет. В ейные-то годы. Не парень ведь. Не первый раз уж ее, миленькую, надсада-то ломала… Лизавета, — оглянулась бабка Авдотья на хозяйку, — я обмою ее да переодену. Ты одежу-то приготовь… Зеркало-то завесить надо.
Сапоги русского солдата отмеряли европейские — польско-чешские, венгерско-румынские, югославско-австрийские и уже германские! — километры войны. Если бы вдохнуть в сапоги душу, из них бы получился осведомленнейший повествователь и летописец, ибо без них ни одного выдающегося поступка не совершила история… Великомученики и работяги, с морщинами и трещинами, с прилипшей глиной и конским навозом, со следами крови, сапоги стерегли всякий шаг в любой сцене на театре сражений. В воинской экипировке сапоги первостепенны, хотя и скромны на вид. В некоторой угрюмости сапог таится преданность хозяину и покорность дороге. В них есть патриархальность и крестьянская простота, бродяжья неприхотливость и стариковская умудренность. Сапоги изведали больше, чем мундир: хлябь колеистых дорог, сырость чахлых болотин, стынь зимних троп и сушь знойной степи. Мундир, конечно, обуви привлекательнее. Он бросок, казист, даже кокетлив. Но в нем мало трудолюбия. Он даже ленив. Сапоги же вечные слуги. Им, пожалуй, близка только шинель — такая же труженица, промороженная январями, промоченная октябрем; она и подстилка, и одеяло, и почти сестра милосердия, когда солдатские плечи колотит холодом.
Сапоги — не соглядатаи истории, а сотворители ее. Это они вгоняли крестоносцев в ледяную смерть Чудского озера, ступали в черную татарскую кровь поля Куликова, пинками гнали нечестивую шляхту из Кремля, драли подошвы о камни Измаила и горбы Альп, отступили, но не уступили при Бородине, топтали окопы Первой мировой, теснились в стременах дикой гражданской и теперь несли геройское терпение по Отечественной…
— Эх, сапожки! Нагуталинить бы вас или жирком смазать, как это батька делывал. — Федор держит в руках снятый с ноги морщинистый, осевший во взъеме, со стесанным дорогами каблуком кирзач. Протягивает его подошвой вверх, трубой голенища вниз — к пламени костра. — Батька-то у меня, Вася, сапожничал, мастером был. Да я не больно его слушался. А теперь часто вспоминаю. Заново бы начать, все бы у нас по-другому с ним вышло.