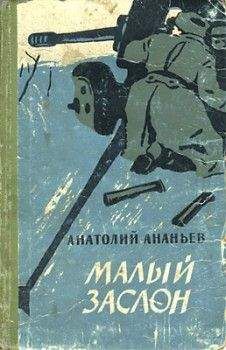В отделении, где ехал больной, люди на нижних полках сидели скученно, завидуя тем, кто лежал на верхних полках. В углу у окна примостился суетливый старичок, который, не имея своего курева, поджидал, когда кто-нибудь вынет кисет, и смело протягивал руку, полагая, что никто не откажет в щепотке табаку.
— Вот я ужо вам отплачу, — говорил он. — Дай мне выйти на станцию, уж я-то табачку достану.
Но никуда не шел, хотя поезд довольно часто останавливался, и все донимали, что говорит он зря, однако в табаке ему не отказывали.
Он занимал публику разговором, рассказывал разные истории, которых, казалось, у него был неисчерпаемый запас.
За окном вагона проползали деревья, опушенные снегом, телеграфные столбы, домишки с надвинутыми набекрень белыми крышами, тянулись поля, на них кое-где чернели широкие полосы неубранной ржи.
Вид этих несжатых полос нагонял тоску, люди вздыхали и посылали проклятия фашистам.
— Эх, жизнь, жизнь! — сказал старичок. — И что, вы полагаете, будет за все это Гитлеру?
— Глаза ему выколоть! — произнес кто-то.
— Мало, — подхватил старичок. — Мало. В клетку его, сукинова сына, и в зверинец — пусть там сидит всю жизнь рядом с волками и тиграми, и кормить его сырым мясом, как зверя, и не стричь, не брить.
— И курить не давать, — мрачно сказал сосед старичка, плотный человек лет за пятьдесят. Судя по инструментам, которые он вез с собою, он работал плотником.
Это был самый ярый курильщик в вагоне; он то и дело вынимал кисет, вызывая протесты больного с верхней полки.
Сейчас он тоже закручивал цигарку, потом передал кисет старичку. Оба закурили. К ним присоединились и другие. В вагоне закачалось тяжелое облако дыма.
— Прекратите вы наконец куренье! — крикнул больной.
Все молчали, точно не их это касалось. Только старичок сказал:
— Есть некоторые люди — о своем здоровье в такое время заботятся. А которые жизни своей не берегут…
Он помолчал, словно ждал возражения со стороны больного, а потом продолжал:
— Вот я знаю один случай, когда наши уходили из Одессы. Теперь ее, гляди, скоро опять вернем. Случай-то произошел замечательный. Бывают же такие герои люди!..
Старичок снова замолчал. Он явно не спешил рассказывать, ожидая, чтобы его попросили.
— Что ж это за случай? — сказал сосед-плотник.
— А вот какой случай, — оживился старичок. — Одного человека там забыли на берегу.
— Как так забыли?
— «Как так», «как так»? Забыли — и все. Пароходы все уже погрузились и отошли, а он остался. Ему что-то там велели делать. Не то мины расставлять, не то еще что-то. Кем он был там — матросом или просто рабочим, — этого я точно не знаю. Вот он делает и делает, что приказали, глядит — никого уже нет, все, как говорится, отшвартовались, того и гляди немцы появятся. Другой бы, может быть, о себе побеспокоился, — искоса взглянул старичок на верхнюю полку, где лежал больной, — а этот как ни в чем не бывало ходит себе по пристани, по складам да помещениям и делает свое дело. Потому — долг выполнял, а жизнью своей пренебрегал.
— Почему же его не забрали с собой?
— Верно, за ним должны были приехать, да какая-нибудь закавыка вышла, этого я уж. не знаю. Договорено, конечно, было, потому что человек спокоен был. Значит, верил, что приедут. Поглядывал на море и думал: вот сейчас заберут его. Да не успели, что ли: немецкие фашисты уже подошли или там румынские, что ли, будь они все неладны, и захватили человека…
— Захватили? — переспросил плотник.
— Захватили и, конечно, начали допытываться: где, мол, ты мины расшвырял, укажи.
— А он?
— А он молчит.
— Молчит?
— Молчит. Они и так его и сяк. Молчит!
— Характер! — довольным тоном сказал плотник.
— То-то и оно. Дай-ка еще закурить. Что-то не накурился. Я тебе ужо отдам.
Заинтересованный рассказом плотник быстро вынул кисет и протянул, старичку. Старичок сделал закрутку, не спеша закурил и сидел, глядя на окружающих так, как будто он недосказал самого главного.
Плотник вопросительно уставился на него. Старичок молчал.
— Небось и деньгами заманивали? — не выдержал плотник.
— И деньгами уж, конечно, заманивали. Говорят, сто тысяч предлагали, укажи, где мины.
— Не сказал?
— Не сказал.
— Ишь ты какой!
— Русского человека на это не возьмешь, — пропустив дым через нос, сказал старичок. — Сто тысяч получишь, а совесть потеряешь. Совесть-то, она дороже денег.
— Не купишь, — проронил плотник. — А скажи, пожалуйста, что же они его потом, пытали, что ли?
— Не без этого.
— Богатырь, значит, человек был.
— Да уж не как мы с тобой. Или вон… — Старичок пренебрежительно кивнул на верхнюю полку и ворчливо сказал: — Махорки боятся. Люди!
Человека, лежавшего на верхней полке, реплика эта, должно быть, задела. Он свесил вниз встрепанную голову-в заросшем русым волосом худом лице его было что-то иконописное — и раздраженно сказал, закашлявшись:
— Делать вам, видно, нечего. Кхе-кхе… Сидят, выдумывают.
— Лежи, лежи, не отсвечивай! — махнул рукой старичок. — Не о тебе речь.
— Начадили тут, а потом виноватых ищут.
— А ты не слушай.
Плотник, очевидно не желая больше раздражать больного, миролюбиво спросил:
— Ты, друг, не рязанский?
Больной медлил с ответом. Потом сквозь зубы процедил:
— Нет.
— Откуда же?
— Ивановский.
— Ивановский? — удивился плотник. — Не с Гуслиц?
— Нет.
— А то я думал: из наших мест. Только у нас народ покрепче. Озорной народ. А тебя, вишь, как скрючило!
— Бывает… — нехотя ответил больной и отвалился на вещевой мешок, подложенный под голову.
Разговор внизу продолжался.
Плотник задавал вопросы, переспрашивал, доискиваясь подробностей; рассказчик, возможно, больше ничего не знал, но от ответов не уклонялся. Придумывал ли он их сам или кое-что ему было известно, трудно было понять.
— А кто же его допрашивал: офицер или, может быть, генерал? — спросил плотник.
— Генерал, — твердо ответил старичок. — Разве бы кто другой мог такой суммой соблазнять? Эва, сто тысяч! Гляди, еще золотом.
— Золотом?
— Золотом, — подтвердил старичок. — А ему хоть миллионы давай, все равно отказался бы.
— Экось на какое дело соблазняли: продай, дескать, самого себя, — значительно поглядел плотник на окружающих и покачал головой. — Ах до чего же хитер враг! Продай ему свою душу. А как человек после этого на себя всю жизнь смотреть будет? Ведь жизнь-то, она вон какая. Тут тебя и солнышко пригреет, тут и детишки свою радость принесут, да ведь и работа, она тоже веселит. Разве ж миллиона это стоит, а?
— О чем говорить! — качнул головой старичок.
— Таких людей, — продолжал плотник, — как этот самый из Одессы, я бы председателями колхозов назначал.
— Вы больных не любите! — послышалась неожиданная реплика с верхней полки.
— Дак а зачем же больных, мы про здоровых говорим.
— Бывает… — опять донеслось с верхней полки.
— Бывает, и курица летает, — хихикнул старичок.
— Однако закусить надо, — сказал плотник и начал развязывать мешок. Он вынул оттуда буханку хлеба и кусок сливочного масла, завернутый в белую тряпицу. Отрезав большой ломоть хлеба, протянул старичку. Тот принял это как должное, может быть, как плату за свой рассказ. Плотник отрезал и себе хлеба, намазал его маслом и стал медленно жевать.
В вагоне царило молчание. Поезд, монотонно постукивая колесами, двигался по снежным полям.
— Экие просторы у нас! — взглянув в окно, сказал плотник. — Фашист-то, вишь, хотел сюда прийти. Больно прыткий. Вот и прыгает сейчас назад. Эх, голова неумная. Дура, говорю, голова. Хотел всю Россию завоевать. А как ты ее возьмешь, когда у нас вот такие люди, как этот самый из Одессы. Поди согни его — не согнешь. Хочешь хлебца с маслицем? — вдруг обратился он к больному, тяжелый кашель которого доносился все время с верхней полки. — На-ка вот, я тебе намажу. Покушай, тебе смягчит там. Дюже ты кашляешь.
Плотник протянул ему ломоть хлеба с маслом.
— Мне сейчас сходить, — сказал больной. — Дома откормлюсь, поправлюсь.
Хлеб он, однако, взял и стал есть.
— Откуда ты сейчас? — спросил плотник.
— Из госпиталя.
— На поправку, значит, после болезни? Так… А потом куда же?
— А потом опять в Одессу. Будем обратно отбивать.
— В Одессу! — встрепенулся плотник.
— В нее самую.
— Ты что же, там тоже был?
— Был.
— Так ты, может быть, и про этот случай слыхал?
— Слыхал.
— А чего ж ты молчал?
— Слушал, какую легенду папаша рассказывает.
— Ты меня не трожь, сам расскажи, коли лучше меня знаешь, — проворчал старичок — «Легенда»!