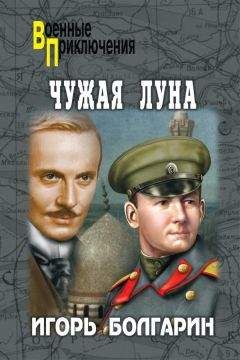— Так это все же не шутка?
— Какая шутка? Какая шутка? — возмутился Гольдман. — Третий месяц тебя дожидается. Я когда из Крыма вернулся, Феликс Эдмундович о тебе начал расспрашивать. Рассказал. И про Харьков спросил, где ты там жить будешь? Словом, поговорили. А на следующий день он снова меня вызвал и дал ордер на заселение. Посмотрели: хорошая квартирка. Так она и стояла, тебя дожидалась. А вчера Феликс Эдмундович сказал, что ты приезжаешь. Попросил привести ее в жилой вид. Целый день мотались. Но, извини, не все успели.
— Но зачем мне одному такие хоромы? — спросил Кольцов.
— На вырост, Паша! На вырост!
— Ну, а детская?
— Сегодня не нужна. А там, глядишь, одной мало окажется, — невозмутимо парировал Гольдман вопросы Кольцова.
— А кто-нибудь у меня спросил, собираюсь ли я жить в Москве?
— А где ж еще?
— Вот разберемся до конца со всей нечистью — и все! И в Харьков. Буду там жить при коммуне Заболотного. Стану беспризорных детишек грамоте учить, воспитывать. Там и моих двое — усыновленных. Куда они без меня?
— Сюда заберешь. В Москве, между прочим, беспризорников поболее, чем в твоем Харькове. Тут коммуну организуешь.
— Лихой ты мужик, Абрамыч, — насмешливо сказал Кольцов.
— Это что ж так?
— Гляжу, ты уже все мои дела за меня порешал, на все мои вопросы знаешь ответы.
— А с тобой иначе нельзя, Паша. Объясняю для неграмотных. Чекист ты от Бога, не спорю. Тебе за армию или там за ЧеКа двумя руками держаться надо. Тут за тебя обо всем подумают: и где переспать, и как одеться, и что поесть. А в цивильной жизни все не так. В цивильной жизни четыре глаза надо иметь, и чтоб голова на все стороны света вертелась.
— Как-то же живут люди. Приспосабливаются.
— Во! Правильно понимаешь: приспосабливаются. Но ты-то приспосабливаться не умеешь. Не дано тебе это: приспосабливаться. А в цивильной жизни без этого — труба. Так что сиди ты на своем месте и не рыпайся, — совсем не шутя посоветовал Гольдман Кольцову.
— Рыпаться буду, — скупо улыбаясь, упрямо сказал Кольцов. — А что касается твоего совета — подумаю. Благо принимать решение предстоит не сегодня.
Кольцов еще раз обошел квартиру. Изучая ее более подробно, заглянул во все уголки. Под конец обхода распахнул балконную дверь, впустив в квартиру сырой весенний воздух. Вышел на балкон, Гольдман последовал за ним.
— Сюда я на днях короба завезу, в столярке заказал. Здесь повешу, — Гольдман указал на балконное ограждение. — Земельку в них засыплем, цветочки в свободное время будешь разводить, — и мечтательно добавил: — Представляешь? Утречком еще сонный вышел на балкон…
— На цветочки у меня не будет времени, — оборвал Гольдмана Кольцов.
— Ну, не ты, так жена. Бабы любят цветочки на балконах разводить.
— Прости, а я что, уже женат? — удивленно спросил Кольцов. — Тогда уж позволь полюбопытствовать: на ком?
— Но ведь не будешь же ты весь век бобылем? А при такой квартире какая-нибудь москвичка быстро гнездышко здесь совьет.
— Так! Все понятно! — решительно сказал Кольцов и сухо продолжил: — Я еще раз спрашиваю: это не шутка? Квартира действительно моя?
— Обижаешь, Паша. Такими вещами не шутят, — даже обиделся Гольдман.
— Тогда категорически запрещаю чем бы то ни было захламлять балкон. Кстати, цветы на балконе я действительно не люблю. Мещанство!
— Как скажешь. Мне даже легче, — смиренно согласился Гольдман и в том же тоне продолжил: — А как насчет балконного пейзажа? Не прикажешь ли его несколько подкорректировать?
— Не понял вопроса.
— Посмотри во-он на те крыши, — Гольдман указал вдаль, где из-за домов выглядывали остроконечные кремлевские башенки и венчающие их двуглавые орлы: — Те две курицы не портят тебе настроение? Может, велишь убрать?
Кольцов понял веселую издевку Гольдмана.
— Пока не трогай. Я подумаю, чем их заменить, — Кольцов дружески обнял Гольдмана за плечо. — Спасибо, тебе, Исаак Абрамыч, за заботу.
— Это не меня, это Дзержинского поблагодаришь. Герсон велел тебе передать, что Феликс Эдмундович ждет тебя сегодня ровно в семь вечера.
— Одного?
— Я так понял: пока одного. А Иван Игнатьевич пусть отдохнет с дороги, побродит по окрестным улицам, на Кремль посмотрит. А чтобы не заблудился в Москве, на время его пребывания велено прикрепить к нему Бушкина.
Задолго до семи вечера Кольцов вошел в приемную Дзержинского.
Феликс Эдмундович, за спиной которого остались стачки, аресты, тюрьмы, ссылки, побеги, снова тюрьмы и снова побеги, не любил перемен в быту. Он подолгу носил все одну и ту же одежду, трудно привыкал к новой мебели и не терпел все перестановки и обновления. В приемной стоял все тот же старенький диван, та же тумбочка в углу, на которой стоял все тот же давний или такой же тульский самовар.
И хозяин приемной тоже был все тот же, еще крепкий, но уже немолодой Герсон. Он не первый год работал с Дзержинским и знал все его привычки и предпочтения. Долгие годы оставаясь секретарем, он постепенно стал и его денщиком, а затем и строгим охранником.
Ходоков с различными жалобами шло к Дзержинскому много и он, по возможности, старался принять всех. Герсон вменил себе в обязанность допускать к Феликсу Эдмундовичу только людей с важными ходатайствами и жалобами, которые никто иной решить не мог.
Дзержинский вошел в приемную без пятнадцати минут семь. Увидев Кольцова, обрадовался и, поздоровавшись и не выпуская его руку из своей, повел его в кабинет. На ходу спрашивал:
— Как жили в Харькове? Как доехали? Как устроились?
На все эти ритуальные вопросы Кольцов отвечал коротко, позволил себе лишь пространно поблагодарить Дзержинского за заботу о нем.
— Вы о чем? — не сразу вспомнил Дзержинский.
— О квартире.
— Понравилась? Все устраивает?
— Намного больше, чем мне нужна.
— Привыкнете. Я случайно узнал, что у вас до сих пор нет в Москве своего угла. А без него человек не так прочно стоит на земле. По себе знаю.
— Спасибо.
— Все ваши бытовые вопросы я поручил решить Гольдману. Он — человек опытный, справится, — и, подведя черту под политесом, Дзержинский сказал: — И закроем эту тему. Перейдем к делу. А дела, собственно, пока и нет. Есть суета. Речь у нас с вами пойдет о тех тысячах белогвардейцев, которые бежали из Крыма. Вы лучше меня знаете, кто бежал. Немного армейской знати, немного богачей с семьями. Но в основном-то бежали мужики. Запуганные пропагандой господина Климовича, из страны бежали также рабочие, но в основной своей массе — крестьяне, гречкосеи, кормильцы народа. Главный контрразведчик Врангеля нашел те слова, после которых и невиновные почувствовали себя виноватыми.
— Но как теперь разобраться, кто виноват, а кто нет. «Кровь на руках» — не аргумент, — задумчиво сказал Кольцов. — Найдите такого, кто скажет: у меня кровь на руках. Даже палач промолчит.
— Ну, положим, это можно и выяснить, и доказать, — сказал Дзержинский — Нет ничего тайного, что при определенном профессиональном опыте не стало бы явным.
— А это значит, что десятки и десятки тысяч тех, кто вернется, мы снова пустим в безжалостную следственную машину. Поверьте мне, все будут виноваты, — жестко сказал Кольцов. — Все без исключения. И что тогда? Расстрел, как это только недавно было в Крыму? Или лагеря? Тогда зачем мы просим их вернуться? Чтобы насладиться жаждой мести?
— Однако вы либерал, — скупо улыбнулся Дзержинский.
— Вовсе нет. Просто я лично наблюдал эту кровавую мясорубку там, в Крыму. У этих «революционных троек» отходов не было. Все шло под нож.
— Какой же выход вы видите? — спросил Дзержинский.
— Выход только один: простить всех. Всех! И виновных и невиновных. И никогда больше к этому вновь не возвращаться. Страсти улягутся, все придут в нормальное состояние. Будем не мстить, а просто жить.
Дзержинский грустно улыбнулся:
— Дорогой Павел Андреевич! Я об этом говорил не однажды. Почти на всех последних совещаниях. Ни Ленин, ни Троцкий меня пока не поддержали. Лев Давыдович, это понятно. Он всех, ушедших из Крыма, считает врагами, и объявление амнистии рассматривает лишь как способ заманить всех их сюда и здесь расправиться. Владимир Ильич мягче, он понимает, что многие, особенно крестьяне, не выступали под политическими лозунгами. Они сразу заявили о своих справедливых притязаниях на землю. Но и с этим мы пока не справились. Крестьянин пока хозяином земли не стал.
— Тогда о чем мы говорим, если ни вы, ни я не хотим участвовать в этой грязной операции заманивания людей домой, а на самом деле для расправы? Я лично не хочу быть тем козлом, который ведет стадо овец на бойню. Вы, как я понимаю, тоже.
— Предположим. Но тогда вы должны понимать альтернативу всему этому. Врангель увел армию из Крыма вовсе не для того, чтобы спасти людей. У него совершенно иные планы. Он готовится к новому походу на Россию. И не только он. В Польше собирает свое войско Булак-Балахович, на Дальнем Востоке — этот Забайкальский атаман Семенов, ставший преемником Колчака. Не ликвидирован и международный авантюрист Борис Савинков, который доставляет нам немало неприятностей. Вам всего этого мало? Могу добавить еще. Нам надо быть предельно бдительными. Один неверный шаг — и война. Причем, возможно, еще более кровавая, чем предыдущая.