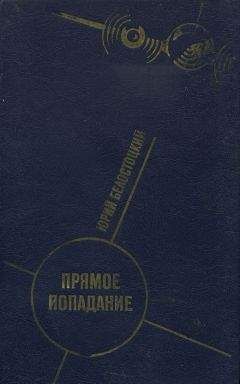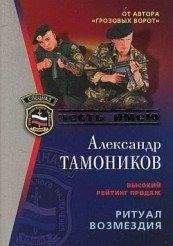— Ты, кажется, Виктор, хотел видеть девушку, которую зовут Настей? Так вот эта Настя. Не узнаешь? — Потом, когда сын тоже повернул голову в сторону Насти, добавила с убежденностью, но уже торопливо и чуть ли не крича, потому что как раз в этот момент над землянкой, приглушив ее голос, послышался нарастающий рев возвратившихся с задания бомбардировщиков: — Не знаю, какой бы она была тебе сестрой, но другом она тебе может быть хорошим…
Но что сын ответил ей на эти ее слова и что он затем сказал Насте, когда, встав на ноги, подошел к ней и протянул руку, Елизавета Васильевна не услышала — рев самолетов над землянкой в этот момент достиг уже такой силы, что не только голос, но и пушечный выстрел — раздайся он у нее над головой — она все равно бы не услышала. Но зато она увидела, как сын и Настя, поборов минутную скованность, вдруг заулыбались друг другу так, будто были знакомы век, и сын при этом еще слишком уж что-то долго для первого раза держал в своей руке руку Насти и Настя отнять у него руку не торопилась.
В землянке он появился под вечер, уже в сумерки. В мокром от дождя реглане, рослый, голубоглазый, с белозубо-насмешливой, но ничуть не обидной для других улыбкой, он сразу же вызвал у летчиков какое-то особое любопытство, особый интерес. Уже по тому, как он резко распахнул охнувшую дверь, а затем, войдя, ловко, чтобы она не ударила его в зад, придержал ногой — руки у него были заняты вещмешком и чемоданом, — он показался им не таким, как все. К тому же у вошедшего во всю щеку, правда, нисколько его не уродуя, голубел шрам, и один из летчиков, старший по возрасту, перестав сдавать карты — от нечего делать летчики резались в подкидного дурака, — невольно встал ему навстречу и, вместо ответа на приветствие, понимающе, скорее даже сочувственно утверждая, чем спрашивая, проговорил с дружеской фамильярностью:
— «Мессер»?
— Нет. Кобель соседский.
Ответ пришельца, хотя и не погасившего белозубой улыбки, если не покоробил, то во всяком случае разочаровал летчиков. Они почему-то ждали от него совершенно другого, даже чуточку необычного, а тут — на тебе — кобель какой-то, а спрашивавший — это был летчик второго звена лейтенант Доронин, и тоже со шрамом, только не на щеке, а на виске, и не от кобеля какого-то паршивого, а от «мессершмиттов» — откровенно досадливо поморщился и с подчеркнуто пренебрежительным видом отправился на свое место и, как ни в чем не бывало, снова начал сдавать карты. Лишь после, как сделал первый ход, внушительно выбросив на стол козырную шестерку, он все же, верно, для приличия, а может, чтобы сгладить невыгодное впечатление, произведенное ответом пришельца на его, как он, видно, с опозданием подумал, не к месту и не вовремя заданный вопрос, переспросил постным голосом:
— Кобель, говоришь? Эт-то интересно, — и, все так же не поворачивая головы, зато бессовестно заглядывая соседу в карты, добавил нараспев: — А сам ты кто же будешь, товарищ покусанный? А? — И высоко, не сгибая в локте, вскинув руку, сделал следующий ход.
— Извините, но вы, кажется, не с той карты пошли, — вместо ответа мягко остановил его от порога вошедший. — Точно, не с той. Надо девятку, а вы восьмерку сбросили. Вот, теперь в ажуре, — и, поставив вещи на пол, взял, наконец, под козырек и, будто врубаясь в строй, в один присест отрекомендовался: — Лейтенант Бурноволоков. Штурман. Из ЗАПа. К вам в эскадрилью. Как говорится, для прохождения дальнейшей службы. — Потом, уже заметно сбавив обороты, с виноватой улыбкой: — Шрам же этот у меня действительно от соседского кобеля. С детства.
Летчики прервали игру, конфузливо переглянулись: пополнение, оказывается, новичок, нашего полку прибыло, а Доронин, быстренько смекнув, что новичок, быть может, как раз к нему в экипаж, вместо его недавно погибшего штурмана, уже более миролюбиво глянул в его сторону, вроде даже соболезнующе покивал ему своей крутолобой, стриженной «под ежика», головой с розовыми мясистыми ушами и опять повторил, видно, не найдя другого слова:
— Интересно, интересно!
— Интересного мало, если разобраться. Дурость одна, — снова повеселевшим голосом отозвался новичок и, не дожидаясь приглашения, прошел чуть вперед, ища глазами, куда бы пристроить реглан с пилоткой. — Ага, вот, — обрадовался он, найдя в стене свободный гвоздь и пробуя, крепко ли он там сидит. — Теперь порядок. — И снова, не обращаясь ни к кому в отдельности, точно самому себе, но невольно притягивая к себе взгляды, продолжал: — Дурость, говорю, одна. Из-за этого шрама меня и в ЗАПе за фронтовика принимали. Честное слово! Один раз даже на встречу с детворой пришлось идти. Со стыда чуть не сгорел. Вызывает меня, значит, комиссар полка и говорит: «Поедешь в детский сад. В порядке шефства. Расскажешь ребятишкам, как воевал. Дух у них поднимешь. Фронтовые эпизоды разные, позанимательнее которые». «Ошибочка, говорю, товарищ комиссар. Я и на фронте-то еще не был». У того глаза на лоб: «Как не был?» — «А так, не был — и все». — «А чего же ты, говорит, мне голову морочил? Вот у меня список — фронтовиком числишься». — «Не морочил, отвечаю, я вам голову. И фамилию свою в список не давал». — «А почему же тогда тебя, я сам, дескать, слышал, фронтовиком кличут?» — «Из-за шрама, наверно, этого. В шутку». — «А шрам откуда?» — «От кобеля соседского. С детства». От таких моих слов комиссара чуть удар не хватил. Минут пять не мог слова вымолвить. А пришел в себя, говорит: «Заменить бы тебя, стервеца, да некем. Но и мероприятие срывать нельзя, не положено. Только полк осрамим. Потому мой тебе приказ: садись в машину и тотчас поезжай в детсад. Без разговоров. Выступишь там. Только чего не знаешь, не болтай. В общем, ступай. И после доложишь. Да смотри, чтоб комар носа не подточил».
Землянка зацвела улыбками — летчики снова, уже не таясь, с любопытством воззрились на новичка, оценивающе перемигнулись: ловкий, дескать, парень, ходовой, и собою видный. Лишь большеголовый сержант, с перебинтованной выше локтя левой рукой, с видом великомученика брившийся перед крохотным щербатым зеркальцем в дальнем углу землянки, отставил бритву в сторону и, вздув на шее жилы, проговорил с натугой и вроде бы не совсем трезво:
— И вы поехали? Согласились?
В голосе его послышалось не только любопытство, и новичок, точно силясь разглядеть, кто это его спрашивает — на всю землянку была одна-единственная керосиновая лампа — помолчал немножко и ответил уже не так бойко, но все же со значением:
— Попробуйте не поехать. Комиссар полка ведь — четыре шпалы [16].
— Верно — комиссар. Ну, и чем дело кончилось?
Это уже спросил Доронин, спросил внушительно, так, что всем, особенно сержанту, застывшему с бритвой в руке, стало ясно: не перебивать, пусть рассказывает до конца, вопросики, мол, придержать под занавес. Так это понял и Бурноволоков и, виновато посутулив плечи, закончил со смешанным чувством стыда и балагурства:
— Выложил им пару баек, какие от ребят знал, да из газет вычитал, и тут же, как говорится, газ — по защелку, опережение — до ушей. Дай бог ноги, в общем.
И снова летчики, позабыв о картах, возбужденно зашевелились, невольно давая этим понять новичку, что поступил он если и не совсем порядочно, то во всяком случае смело, не растерялся, словом, проявил, что называется, армейскую находчивость, а раз так, то и вояка из него должен быть добрый. А Доронин даже привстал и, словно боясь, что его могут опередить, поспешил предложить ему койку, что пустовала рядом с его собственной:
— Вот тут и приземляйся. Капонирчик удобный. Свободный, — и, неуклюже взбив подушку, добавил, приспустив веки: — А портретик можно убрать, ежели мешает. Теперь он ни к чему.
Над койкой — два топчана и деревянный щит, — как раз в простенке между окон и в самом деле висела выцветшая фотография какой-то миловидной рыжеватой женщины. Бурноволоков обратил внимание, что глаза у нее чуток вытаращены, будто от испуга. «Не иначе, фотограф напугал, — усмехнулся он про себя. — А на обороте, наверное, что-нибудь вроде «Юре от Нюре» или «Люби меня, как я тебя», — и вдруг тут же резко — половица под ногой скрипнула — обернулся к Доронину, как-то болезненно прищурился и глухо спросил:
— Вдова, выходит, чья-то? И давно?
Тот неуклюже потянулся к лампе поправить фитиль. Руки у него были короткие — не достал. Пришлось встать. Табурет с грохотом отлетел к стене.
— Давно, говорю, сбили? — водворив табурет на место, опять глухо, но уже настойчиво переспросил Бурноволоков. Что-то подсказывало ему, что он имеет право на эту настойчивость.
— Неделю назад. «Мессера». Штурман мой. В одном экипаже. С хвоста зашли. Из пулемета. Насмерть. А Степану вон, стрелку-радисту, — кивок в сторону брившегося сержанта, — руку поцарапали. Выше локтя. А это жена штурмана. Только перед войной поженились. Да вот не повезло. Убери, ежели мешает.