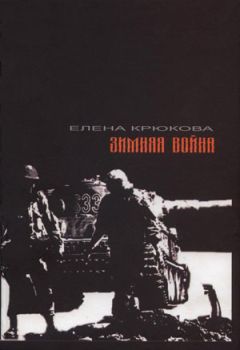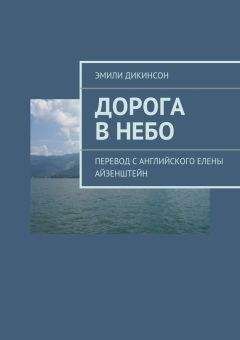В подземном переходе было пустынно: ни души. Воспителла держала Леха за руку, они бежали сломя голову. Мы вырвались от них, вырвались!.. А полковник?.. Что от тебя хотел этот полковник?.. Да ничего особенного, он, по-моему, меня с кем-то перепутал, он думал, что я… он меня назвал: Анастасия… Я ему и говорю: я не Анастасия! А он схватил меня за плечи…
Я видел, что он схватил тебя за плечи. Больше не схватит никогда.
Он не сказал Воспителле, что он узнал Исупова, что это полковник его части, и под его командованьем он воевал, и к нему возвращался. Узнал ли его Исупов? Все возможно. Они люди военные. Осторожные. И Камень; сейчас полмира, разнюхав тайну, висящую в дымном предсмертном воздухе, выслеживает Камень. Если Исупов в Армагеддоне — и Серебряков тоже здесь. Что это значит? С Войны сюда не так-то просто прилететь. Это значит, что они все повязаны одной игрой. По правилам? Без правил? А ты бил под дых и в ухо черным дюдям в очках без правил, Лех?!
— Я хочу шоколадного торта, Воспителла. Ты умеешь печь шоколадный торт?
— Лех, милый… — Она сглотнула, приоткрыла рот, запахивала разодранную кофточку, держала в кулачках лацканы мужской кожаной куртки. — Лех, родной, где наш Третий Глаз?.. его ждут в Париже… его ждет русская Цесаревна… говорят… мне донесли… ну, шпионы везде… что она мажется моей, моей помадой…
Он запустил руку за пазуху. Помертвел.
— Я потерял его.
Какой поганый, банный, клозетный кафель в этом подземном гадком переходе.
Навстречу им, застывшим, бросился наперерез приземистый мужик, бритый и широколицый, с тяжелой челюстью, с прицельным, пронзительным взглядом зверя в тайге. Воспителла закричала. Бандит сделал молниеносный выпад. Лех отлетел к кафельной стене, ударился о кафель спиной и затылком, застонал, стал оседать, но удержался на ногах.
— Господи, Господи, — шепнул он и сплюнул. — Как мне надоело насилье в этом проклятом мире. Врешь, шалишь. Я не буду на тебя тратить свой автоматный огонь. Свой последний патрон. И последнюю пулю получишь не ты… гаденыш. Я еще помню все, чему меня учили ТАМ. Я сейчас покажу тебе, щенок ты, култышка ты недопиленная, наше каратэ… наше вин-чун нашей Войны. Я еще… ничего не забыл. Х-ха!
Они стали драться. Бандит оказался дилетантом. Лех применял неотразимые приемы. Он дирижировал боем, он был дирижером и композитором. Какая жестокая, дикая музыка. Человек убивает человека. Мало тебе было тамошних боев. Лицо его перекосилось: оскал Войны, крови, азарта. Ты выиграешь! Это твой орел, а не решка! Но и парень оказался не до конца дурак. Он сжал губы подковой: мол, поищи других дураков махать руками, — и выхватил из-за пазухи нож.
— Ах, ты так, падаль.
Лех мгновенно выхватил — сзади, из-за спины, из кармана штанов — нож в ответ. Поножовщина. Глупо. После того, как спаслись от черных — тупой полупьяный бандит, подземный армагеддонский переход. Нет ничего глупее такой поножовщины. Побледневшая Воспителла не кричала, не звала на помощь — только вжималась в стену, и раскрытые ладони ее нервно, судорожно ползали по морозящему грязному льду кафеля. Патроны в бодигарт-эрвейте кончились. Она расстреляла все.
Как прекрасно женщине всегда иметь при себе маленький револьвер. Как отвратительно, что в нем кончаются патроны.
И внезапно над прорытой в земле Армагеддона подземной норкой, где сцепились в пошлой, кровавой драке два зверя-мужика, раздался гул. Страшный гул. Что это. Что это! Двое сразу перестали драться. С обшлага Леха медленно цедилась на заплеванный асфальт кровь. У бандита лицо пестрело свежими порезами, и парок стоял над щеками и располосованными скулами, над синяком под глазом.
Прямо на них, уставших от драки, слушавших надземный гул, летел-катился с лестницы третий мужик, лупоглазый, расхристанный, в нищем пальтенке. На лице у него колом торчало горе, ярко светились слезы.
— Вот вы тут деретеся!.. — заблажил он надрывно. — Деретеся, да!.. Гады, суки!.. А тут по Армагеддону опять-снова танки-шманки идуть!.. Броневики!.. Вота!.. Горе-то черпать будем не ложкой — ковшом!.. До нас, до нас эта сволочная Зимняя Война докатилась!.. Поняли?!..
Лех и бандит поглядели в избитые лица друг другу.
— Может, от нас-то она вдаль, туда, и покатилась. Враки все это, что в полководца стрельнули… и она началась… она же никогда, никогда не кончалась…
Они все вчетвером, бандит, Лех, Воспителла и нищий деревенский мужичок, неведомо как занесшийся в бешеный Армагеддон — может, на рынке приехал чем вкусненьким приторговать, может, в гости к куме или на пьянку к дружку, — медленно поднялись вверх по лестнице из-под земли. Гул обнял их. Танков не было видно — над Армагеддоном висел сплошной горький зимний туман, и в него проваливались машины, деревья, люди, лица.
Воспителла попыталась нашарить в холодном тумане окровавленную руку Леха. Она плакала.
— Кому теперь будут нужны мои помады!..
— Не волнуйся. Поедешь за море. Полетишь. Я сам снаряжу тебя. За морем твои сурики всегда будут в цене.
Голос его стал сух и льдист. Она уцепила его за руку — он оттолкнул ее.
— Лех, что с тобой?.. Тебя как подменили. Может, мне лучше… с этим вот бандитом… уйти?..
— Может, и лучше.
Он раздул ноздри. Он зачуял запах пороха. Вот она. Вот она, родимая, пришла, достучалась, добрела сюда. Встречай гостью, град Армагеддон. Война. А, тут женщина стоит. Да. Женщина. Воспителла. Смазливая парфюмерка. И он ей сердце открывал. А вот она, пришла, Зимняя Война. И он снова свободен и счастлив. Она одна, Война, возьмет его сердце — с порохом, с темной кровью, с бульканьем систол.
— Лех, что ты?!
В ее голосе звучал страх. Это был страх животного в бойлерной перед закланьем.
— Все в порядке. — Он выпрямил спину, чувствуя, как все шрамы на спине приходят в движенье. — Иди к себе домой. Одна. Видишь, это Зимняя Война здесь началась. Иди. Я приду позже. А может… совсем не приду. Третий Глаз мы потеряли. Теперь он смотрит на этот мир уже без нас. И Анастасия его никогда не получит. Хоть все глаза в Париже проглядит. Мы его потеряли. И как только мы его потеряли — здесь началась Война.
— Ну, до свиданья тогда… А?..
Она стояла перед ним, мяла на груди изорванную кофтенку.
Молчанье. Гул. Туман.
Бандит и мужичонка стояли рядом с ними, как два святых на иконе. Бандит промакивал рукавом испятнанную кровью ряшку, мужичонка крестился и молился, как умел, зная, что молись не молись — все бестолковое дело. Война глуха к молитвам. Война гудит и прет напролом. Гудят самолеты и танки. Ее не остановишь.
Откройте, Святые, что с нами со всеми станет.
— До свиданья, — с натугой, нехотя, через силу выдавил из себя он, как масло из тюбика.
Он сдержал слово. Он пошел к ней. По черной ночной улице гулял туман и ветер. Неостановимый гул насыщал черный воздух. Он говорил сам с собой. Думал вслух. Произносил слова отчетливо и жестко.
Это всего лишь женщина. Они у меня были. Они у меня, конечно, будут. А это — Война, которую надо ценить и любить. Которой больше не будет никогда на Земле. Никогда. Да. А это что? А это лестница в доме, где живет эта странная женщина. Парфюмерша знаменитая. Я поднимаюсь по лестнице к ней домой. От нее пахнет помадой, земляникой, водкой, парижскими духами. А кто я такой? Я завязывал колючие ремни на шеях. Я стрелял в упор и навскидку в живое тело, когда оно рвется в крике. Я кромсал штыком на куски вражье мясо. Кто враг, я не знал, но не в этом же дело. Я делал выпад — и солдат падал в пропасть с коротким выкриком. Я выучил древнюю мудрость: «Убей ты, не то убьют тебя». Я изучил много видов различных ножей, много сортов пулеметов. А тут всего лишь женщина. Живая, теплая женщина. Я с ней спал когда-то. Но Зимняя Война началась. И медлить нельзя. Сейчас каждый час дорог. Каждая минута на учете. Лебединая сталь в облаках — вперед! Я звоню. И она на пороге. Заходи, гостем будешь. Ты знаешь, зачем я пришел? Как тяжело она молчит. Сказать, что я не приду к тебе никогда. Она пятится к шкафу. Под ее руками подаются дверцы. Что она ищет? Она вслепую нашаривает в шкафу апельсин, очищает его на моих глазах, ест. Вынимает из шкафа еще один, бросает мне. Угостись. На прощанье. Мы с тобой много горького пережили. И ты… не ищи меня, не приходи ко мне больше никогда, слышишь?! Я тону в тебе… как в трясине. Оставь меня в покое. Я плюю в тебя. Я плюю в тот колодец, из которого пил.
Как она внимательно слушала. Как, утомившись собственной грацией, ела апельсин. Глаза ее уставились в одну невидимую точку. Слезы обильно лились из-под ресниц на раскусываемые оранжевые дольки южного фрукта. Ты с ума сошел, Лех. Сошел с ума. Это все оттого, что мы потеряли Третий Глаз. От этого. Нет. Я в своем уме. Я мерзавец, проходимец?.. подлец, да?.. Не приукрашивай меня. Я такой. Я сам знаю, что мне надо. Тебя мне уже не надо. Мне надо Зимнюю Войну. Она сама нашла меня. Мне не надо больше ехать к ней. Возвращаться к ней. Но я не сдюжу ее, если буду рядом с тобой. Лех!..