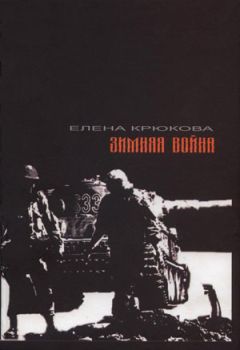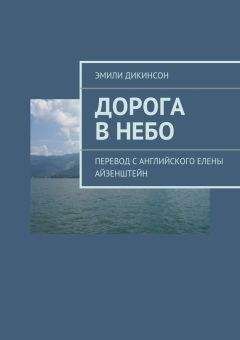Давид размахнулся и дал Ионафану пощечину. Тот покачнулся, схватился за заалевшую под золотом волос щеку.
— Придержи язык!.. мы и себе не должны открывать наше знанье, не то что друг другу!..
— Давид прав. Имя я запомнил. Теперь я вам сообщаю, что Сапфир у меня.
Они глазами спросили его: где? Он хлопнул себя ладонью по ляжке. Там, под штанами, свежезашитая рана, и под швом — выпуклость величиною с перепелиное яйцо. Рана забинтована крепко, мастеровито. После того, как сестра милосердия перебинтовала ему ногу, он прямо на госпитальном столе изнасиловал ее. Она пищала, как цыпленок.
— Вы есть хотите? У меня с собой черный хлеб, намазанный черной икрой, чернослив и вино «Черный доктор». — Они, все трое, захохотали, довольные всемерной чернотой. — Коромысло не дурак. Он великий мыслитель. Он считает, что России нужен новый Владыка, но не из Семьи прежних Царей. Он верит в Последний Срок. Он полагает, что Последний Приговор произойдет на снежных полях России, когда Война докатится вся, целиком, сюда с Востока, с гор и из степей, и что мы должны достойно встретить Судью. Все должно быть возвращено на круги своя. Все должно занять свое законное место. Жрите! — Он вынул из карманов снедь, растолкал в подставленные ладони Ионафана и Давида. — Лопайте, черные ребята! Нам осталось недолго. Ищите, и обрящете.
— Где Камень?
— Я же, бестолочь, показал тебе, где!
Ионафану наконец удалось отдуть налипшую на лицо, через глаза и скулы, золотую прядку. Авессалом дожевал бутерброд, вытянул руки и внезапно рванул черную куртку на груди Ионафана, и под черной материей блеснула богатая, роскошная золотая, медная, красная парча.
— Ого-го, парнишка! Как это надо понимать?.. В батюшки готовимся?.. Или в Цари уже метим?!.. — Авессалом больно тряханул юношу за локти. — Что это за маскарад?!..
— Покажи Камень, — тихо, грозно попросил Ионафан и стукнул Авессалома по вцепившейся в его локоть руке в черных перчатках. — Не верю тебе. Покажи сначала. Потом я тебе скажу, в какой церкви служу.
— Не веришь?.. И это похвально.
Он вытащил из-под рубахи нож.
— Ногу разрезать мне предлагаешь?.. Режь. Полюбуешься, потом сам рану перевяжешь. Только не забудь обезболить и продезинфицировать. Иначе я разрежу твою нежную кожицу и вошью Сапфир тебе. Где Коромысло?.. В Доме Власти?.. Я позвоню ему. Телефон у меня в нагрудном кармане. Вытащи, набери номер, у меня руки заняты.
Ионафан отодвинул от себя нацеленное ему в грудь лезвие голой рукой, бесстрашно глядя Авессалому в глаза. Давид без звука смеялся, меленько трясся в припадке смеха, на губах у него застыли зернышки черной икры. Гарь обволакивала их. Огонь бился на ветру, выбивался из окон дома. Обнимал яростно, ненасытно разваленные, как рыхлое печенье, стены красными руками. Еще сегодня в доме жили живые люди. Еще сегодня. Еще сейчас.
Они вкололи в меня слишком много наркотиков. Они сделали мне так больно. Зачем?! Они отняли у меня мою драгоценность. Мою драгоценную жизнь отняли они у меня. Да она мне на х. й не нужна.
Я брежу. Я все вижу. Глаза мои закрыты, но я зряч. Они привязали меня к стулу, чтобы я не свалился. Они делают мне больно, а потом обливают меня водой, чтобы я очухался. Я вижу живые картины. Я вижу тебя, Воспителла. Ты идешь по улице быстро, ты бежишь. За тобой идут два черных человека, старый и молодой; у молодого ярко-золотые волосы, как у девушки, длинные, слетают на плечи, чуть вьются. Ты забегаешь в церковь. Там идет торжественная служба — ведь нынче большой праздник. Сретенье Господне. А холод!.. А лютый холод наш… Ты греешь руки над горящими тоненькими свечками, хоть это в храме и воспрещено. Продавщица свечей укоризненно, тяжело глядит на тебя. Иеромонах в золотой парчовой ризе делает регентские знаки хору. Поют молоденькие девочки, пташки и козочки, и иеромонах плотоядно взглядывает на них. Последнее созвучье хора замирает, гаснет под высокими гулкими сводами. Это Голгофа. Это Распятский храм. Это Север, Острова. Это каторга. Разве ты была на каторге, Воспителла?! Служба окончена. Иеромонах увидел тебя в толпе прихожан, подмигнул, сделал знак рукой, будто показал тебе, как певице, вступленье: «Погоди, я сейчас». Он торопливо спускается к тебе с амвона, благословляет тебя. Знает ли батюшка, что ты изготовляешь грешные помады для порочных женских губ?! Знает: ты исповедалась ему. Ты складываешь лодочкой ладони, склоняешься и прикладываешься, как к потиру, губами к его волосатой руке. Ты никогда так благоговейно не целовала мне руку. Ты целовала мне руки, грудь, глаза, губы — горячо, задыхаясь. Те два черных человека, что шли за тобой, появляются в церкви. А вот и третий — он среди паствы. Он переглядывается с пришедшими. Они проталкиваются, оттесняют старух в белых платках с заячьими ушами завязок. Они берут тебя в кольцо, как волчицу. Ты в плащике-распахайке, завязанном бантом на груди; ты совсем с ума сошла — в легком плащике — лютою зимой!.. Легкомысленная… махаон мой. Иеромонах запускает руку в складки расшитой золотыми и серебряными нитями, алыми цветами и поющими птицами — у птиц изумрудные глазки и рубиновые клювики — негнущейся парчовой ризы. Что он вынул? Я вижу, вижу отсюда. Это маленький, чудесный, дамский, прелестный смит-вессон, бодигарт-эрвейт, тридцать восьмого калибра. Он сует револьверчик тебе в лапку, под плащ. Ты крепко сжимаешь оружье. Теперь оно твое. Теперь оно Божье, ха-ха. Ты закрываешь глаза. Совсем как я. Черные люди приближаются. Батюшка встает над тобой, возвышается громадной парчовой горой, гора растет, вырастает, наплывает, и ты склоняешься низко, гнешься, падаешь к изножью горы, делаешься маленькой, как бабочка, как землеройка, как тундровый лемминг, и ныряешь в гигантские складки парчи, и тебя нет, нет тебя уже, тебя накрыли тяжелой парчой, как цыганки, воровки, накрывают самовар юбками и уносят в табор навек со двора доверчивых хозяев. Где она?! Где она?! Черные мечутся. С колокольни звонит колокол. На улице метель. Парчовая гора движется к алтарю. Ты катишься перекати-полем под шатром древней скинии, блестящей огнем и золотом. Священник с ума сошел. Он вводит тебя в алтарь. Он прячет тебя в алтаре. Бабу — в запретном месте святом. Хвала ему. Ты будешь жить. Тебя не застрелят. Это ты застрелишь, если надо. Не стреляй в человека и птицу. Выстрели в снеговика. Вон их сколько — армагеддонские дети налепили на улицах, меж алмазных сугробов.
Вы оба стоите в алтаре, священник и девушка с ярко накрашенными душистой помадой губами, с горящими, как две свечи, глазами, и священник отламывает от ковриги кус, протягивает ей, и с улыбкой подносит золоченый потир, а там, на дне, остатки причастного вина. Вот они, твои Святые Дары, Воспителла. Сожми крепче в кармане револьвер. И причастись. Откуси Тела, выпей Крови. И поклонись батюшке, спасшему тебя. И выйди на улицу. А вон он и четвертый, сидит под церковным крыльцом — сумасшедше блестит острыми узкими глазенками, все видящими, стрижет зверьими ушками, слышащими все. Беззубая улыбочка не слезает со щетинистых сизых щек. На голове колпак. И сам нашил он бубенчик. И голову наклоняет, как вещая птица. Погибнет, скоро погибнет великий град Армагеддон!.. В огне сгорит!.. И ты в огне сгоришь, милая девочка!.. Колесо Огненное по земле течет… дай копеечку, подай, сразу попадешь в Рай…
Ты подаешь ему монету. Ты подаешь ему большую, бумажную богатую деньгу. Что он на нее купит?.. Ящик вина?.. Великанью голову сыра?.. Жемчужное ожерелье для возлюбленной?..
Ты моя возлюбленная, Воспителла. Ты прекрасна. Прости меня за все. Прости, если что не так. Прости меня, если я умру и больше не увижу тебя. Я вижу тебя. Я вижу тебя всю и с закрытыми глазами. И под пыткой. И в забвенье.
А что еще я вижу в забвенье?!..
О… бездна… бездна раскрывается. Я боюсь ее. Я люблю ее.
— …там, на Войне, мне довелось побыть всем, чем угодно, Воспителла. И шофером тоже. Да, я умею и машину водить классно, не удивляйся. Я же не удивляюсь, что ты умеешь танцевать на столе. Я водил жуткую военную железную коробку, крытую брезентом… иногда командный состав в ней перевозил из части в часть, полковников, майоров… бывало, и генералов. Горы под Солнцем отсвечивали опалом, алмазом, блеск гольцов резал мне глаза, я трясся в старой машинешке, со мной рядом — полковник… курево во рту… презрительный, косой взгляд на меня: вези, вези, солдатик, все равно ты и я, мы оба — военное мясо, наши кости истлеют здесь, в степи, в горах… зима, холодрыга, мы застынем, мы сохранимся, как мамонты… Взрывы гремят. Ты к ним привыкаешь. Ты уже привык, а небо вздрагивает, как пацан, что обжег себе спичками пальцы. Ты не знаешь, что такое взрыв, Воспителла. Он зачеркивает всю твою жизнь. Он режет накрест — как ножом или битым стеклом — твою жалкую маленькую живую душонку, и от него не укрыться ни в какое укрытье. В стороны, веером, иглами дикобраза, летит раненая земля, летят осколки, рваный металл, грязь, куски человечьих тел — а, тебя ранило, в тебя входит осколок, но ты не чувствуешь боли, это же не осколки, это железная манна небесная. Один миг! Взрыв — ничтожный миг. И он же — огромный мир. Сотворенье, разрушенье — у них одна природа. Это всегда Вселенная. Нам ее не познать. Рушится жизнь. Отваливается, как кусок хлеба, гора от хребта. Взамен — черная дыра… яма… пустота. Но ведь пустота — это тоже Вселенная. Звезды летят в пустоте. Как знать, может, тебя взорвали — а на месте тебя, в пустоте, кишат мириады новых существ… А ты?! Да черт с тобой. Тебя нет — да и не было тебя вовсе. До меня когда это все дошло… и когда доехало еще, что эта Война — не германская, не албанская, не испанская, не финская, не корейская, не вьетнамская, не холодная, не обжигающая, не… а Необъявленная, Без Видимых Причин… тут-то великий покой спустился, слетел в меня, свил во мне гнездо, как птица: я узнал, Воспителла, что время… просто смеется над нами!.. что мы всю жизнь пытаемся его взвесить на весах, вымерять длинами и объемами, втиснуть в формулу, в отчетную фразу… а оно то скукоживается в невидимую крошку — эй, воробей, склюнь!.. — и воробей крошки не различит под лапкой… — то распахивается белопенным Океаном, и мы тонем в нем, непознанном… и опять, опять — оно — птичка у нас в кулаке, и пищит, и чирикает нам: «Отпусти!.. Выпусти!..» — и мы выпускаем его в Вечность… и прощай. Уже не прилетит никогда. Не вернется. Улетело. Навсегда… И взамен Времени — лишь синие, сапфировые льды, снега, снега — до неба. И небо само синее, синее. И заглянуть до дна в синеву невозможно. У нее нет дна. И крыша твоя едет, Воспителла. Ум твой заволакивает тьмой… какая синева… какой снег на полмира. И проклятье лезет вон из глотки — а язык застыл… глотка затянулась льдом — ругань не выхаркнуть… Вот и я на своей таратайке… перевозил туда — оружье, пулеметы, автоматы, револьверы — вязанками… в другую — мертвецов… вязанками тоже. Мне мертвецов в машину загружали, я видел их… я видел, как свешивались чугунно их головы, как мотались руки, видел скулы в запекшейся крови, кишки, вываливающиеся из животов… мне давали выпить из мензурки спирта — чтобы я не терял присутствия духа, трупы вез мужественно, не плакал, с дороги не сворачивал, чтобы поблевать под кустом. Я спирту хлопну… и легче мне. И вот еду я однажды по зимней дороге, в горах… вижу — девушка… тянет руку, попутку ловит…