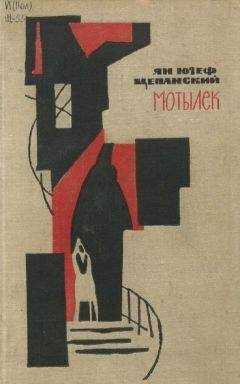— Будешь есть? — спрашивает тихо мать.
Михал отрицательно качает головой.
— Я разогрею тебе это на ужин, — говорит она.
Она встает, убирает со стола. Ее заботливая, полная нежности суета приносит успокоение.
И до момента, когда приходит пора ложиться спать, ничего не меняется. Они ходят осторожно, почти на цыпочках, делая лишь самые необходимые дела, говорят лишь самые необходимые слова, дружественные и полные участия друг к другу. Они знают, что каждое неосмотрительное движение может нарушить состояние временной нечувствительности.
Вернувшись из ванной, мать долго молится возле кровати, а кончив молиться, целует Михала на ночь, и Михал обнимает ее взволнованный. Потом он садится на тахту в темной комнате не раздеваясь. Окно он оставил открытым, бумажная штора легко шелестит от ночного ветра. У него такое чувство, словно все его будущее ушло из-под ног. И некуда сделать следующий шаг. А идти дальше надо. Не думая об этом, он знает, что должен сделать еще несколько дел, которые кажутся ему унылыми, лишенными смысла призраками поступков. Когда наконец дыхание матери сменяется ритмичным сонным посапыванием, Михал тяжело поднимается и зажигает у изголовья кровати маленькую лампочку. Некоторое время он стоит, стараясь мысленно восстановить прерванную нить своих дел. Наконец он подходит к печке и из щели между кафелем и стеной достает завернутый в тряпку револьвер Длинного. Потом он становится на колени возле тахты. Из-под ремней, придерживающих пружины, он достает плотно сложенный квадратик бумаги — последнюю газету, которую не успел прочитать и пустить по кругу. Все это он заворачивает в лежащий на столе номер «Гонца». Потом осторожно поднимает бумажную штору и вылезает через окно на наружную галерейку. Дождь перестал, на крышах лежит водянистый свет луны. Он идет в тени вдоль стены, обходит две стороны двора и останавливается у винтовой лестницы. Одна из ее ступенек шатается. Он вытаскивает доску, прячет под нее свой сверток и возвращается той же дорогой.
Потом он медленно раздевается. Каждое его движение рождается из автоматизма мускулов, но почему-то сегодня в них есть некоторая скованность — так раненый человек охраняет в себе источник боли. Он должен побороть себя, чтобы погасить лампу и залезть под одеяло. Он боится воспоминаний, которые только и ждут темноты и бессонной неподвижности тела. Чтобы защититься от них, он начинает обдумывать детали завтрашней операции. Они кажутся ему совершенно нереальными. Улица, газетный киоск, ворота, дом на углу, забор автомастерской. Картины накладываются, как безжизненные фотографии, на единственную реальность — опустошенную комнату Терезы.
Он с трудом вспоминает серую фигурку Клоса, сгорбившуюся у дверей дома. Он знает, что эта картина содержит в себе самые различные возможности, которые надо предвидеть. Поэтому он начинает строить предположения над пропастью ожидающей его действительности.
«Иногда он ходит один, — думает Михал. — Это лучше. И не всегда возвращается в одно время. Он может обойти засаду, и тогда завтра это не состоится. А если он меня видел? Если он меня видел, — продолжал Михал размышлять, — он может приготовиться к обороне».
Мертвая картина улицы постепенно наполняется тревожным содержанием. Он уже не так спокоен. В душу его закрадывается страх.
Михал видит себя стоящим в тени киоска, видит идущих со всех сторон штатских — из-за угла, из ворот, с противоположной стороны улицы. Штатские с руками в карманах, в шляпах, надвинутых на глаза, хорошо знакомые штатские с собачьими лицами.
Теперь ему страшно, он сжимает зубы от страха. Выстрелы распарывают темноту быстрыми белыми полосами. Бешеный бег с сердцем в горле. Он видит немощеную боковую улочку, идущую куда-то под уклон, он бежит по ней вниз. И тогда из-за следующего угла выезжает притаившаяся машина, берет его в холодные ножницы фар. Ослепленный, он мечется из стороны в сторону, как заяц, и не находит выхода из потока света, а вокруг сверкающие звезды, все более плотный поток лучей. Он почти уверен, что так оно и будет. «Но все-таки надо через забор, — думает он. — И надо оставить один патрон. Для себя».
Он пробует и другие варианты, но этот остается в памяти самым отчетливым. Измученный, он ворочается в постели, плотно сжимает веки. Это длится очень долго. Недавняя боль содрогается где-то в глубине, как оседающий фундамент охватившего его страха. Картины все время возвращаются, полные жестоко-выразительных деталей. «Если бы я мог молиться», — думает Михал и чувствует над собой огромную черную бездну.
Вдруг он вспоминает, что цель всего этого — убийство Клоса. Он должен убить Клоса, обладателя многих тайн.
Измученного Клоса с бледным бегающим взглядом, с любовью к жене и маленькой трехлетней девочке, которые ни о чем не знают, Клоса с памятью, полной стихов.
В страхе за собственную жизнь Михал не пожертвовал ему ни одного удара сердца. Значит, вот как это бывает? Он призывает на помощь лица Терезы и Моники. Говорит самому себе, что вот он предает все, даже собственное отчаяние. Он полон отвращения, но не может освободится от страха.
Где-то в монастырском саду хрипло запел первый петух. Михал поворачивается к стене. Всем сердцем он хочет заснуть. Заснуть и никогда уже не проснуться.
* * *
Одним рывком он садится в постели. Непрерывно звонит звонок, дверь гудит от тяжелых ударов. Трещит сорванная светомаскировка. Жесткий картон с хрустом и хлопаньем падает на стол, серый рассвет врывается в комнату, вместе с ним через подоконник перелезает большая черная фигура. Твердые голенища, на фуражке блестят череп и кости. Их опережает крик:
— Auf! Hände hoch! [44]
И Михал спускает на пол босые ноги со странным чувством облегчения. Он видит неясный силуэт матери на кровати. Видит, как она медленно поднимает вверх худые белые руки, по которым сползают рукава рубашки.
На какой-то миг кажется, что все утихло, так как прекратились звонки и удары. Слышны лишь ворчание грубых голосов и тяжелые шаги в коридоре.
Черный стоит посреди комнаты, широко расставив ноги. Он направляет на Михала кулак с револьвером. Внезапно их становится больше. Штатский в кожаном пальто и тирольской шляпе, офицер в хорошо подогнанной шинели.
— Dort! [45] — кричит черный, показывая дулом на простенок между дверью и стеной.
Михал на ощупь всовывает ноги в туфли и, шлепая, идет к стене. Твердая лапа опускается ему на плечо, поворачивает его лицом к стене.
— Nein, Sie bleiben sitzen! [46] — Это, наверно, матери.
— И оставайтесь в кровати, мамаша, — говорит штатский тяжеловесным польским языком.
Ими наполнена вся квартира. Отовсюду слышен треск открываемых шкафов, грохот выдвигаемых ящиков. В соседней комнате пани Ядвига, мать Мачека, что-то объясняет по-немецки ясным отчетливым голосом. Бешеное, как удар по щеке, «Maul halten!» [47] заглушает ее слова.
Теперь они вытаскивают чемоданы из-под кровати. Какие-то вещи падают на пол.
Холодный металл упирается Михалу в плечо.
— Kannst du nicht die Hände recht halten, Kerl? [48]
Это не черный и не штатский. В его голосе звучит справедливое порицание. Краем глаза Михал замечает зеленую шинель. Он выпрямляется и поднимает выше руки, которые начинают уже дрожать. Офицер не отходит.
— Isfame? [49] — спрашивает он.
— Vorname? [50]
Михал удивляется спокойному звучанию собственного голоса во время ответов.
— Geboren? [51]
— Beruf? [52]
Потом шелест бумаги и брошенное куда-то в глубину «stimmt?» [53], на которое нет ответа.
В это время штатский выдвигает ящики стола. Михал чуть поворачивает голову и видит, как тяжелые лапы нетерпеливо перелистывают записи, хватают французский словарь и трясут им в воздухе, а потом пренебрежительно бросают на пол. Теперь штатский держит тетрадь в клеенчатой обложке. Перелистывает страницы. Читает. Михал смотрит на его лицо. Толстый нос, толстые красные щеки, твердые губы, от твердых, как кулаки, слов. Он читает, наморщив низкий лоб, и Михал со странным напряжением следит за выражением этой физиономии, за признаками тех впечатлений, которые могут на ней появиться.
Офицер отходит, скрипит сапогами возле шкафа.
— Na, was ist denn das, Gerhardt? [54] — спрашивает он через минуту.
Штатский переворачивает еще одну страницу, потом хлопает тетрадью об стол.
— Ach, Mensch, Scheiss! [55] — говорит он, пожимая плечами.
У Михала начинает болеть спина. Он все чувствительнее ощущает холод, проникающий под тонкую пижаму. Его слегка знобит, но он спокоен, совершенно спокоен.
Почти с благодарностью принимает он приказ черного: