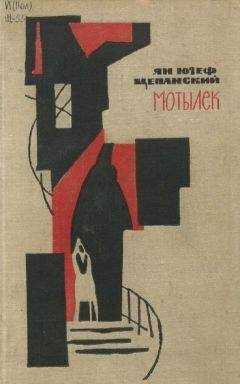Давно, вскоре после выхода первых своих книг, Ян Юзеф Щепанский обронил о себе фразу, как бы винясь перед критиками и опережая упрек, который ожидал он от них услышать. Он писал, что герои его недостаточно положительны, а их поступки слишком мало годятся для примера. Смысл признания был таков: что поделаешь, пишу о тех, с кем сталкивала меня жизнь, и изображаю их такими, какими видел…
Но ни сам Щепанский, ни критики, которые говорили о его книгах, не сказали о главной примете героев этих книг: в каких бы сложных (и чаще всего трагических) обстоятельствах ни являлись они перед читателем, они заставляют ощутить, что рождены все они для иной жизни, для иных дел, что обладают они человеческим талантом, погибающим втуне в силу различных неблагоприятных и от них не зависящих обстоятельств, и что они — в преимущественном своем большинстве — по природе добры, а не злы. И если они вынуждены разрушать и убивать, то это происходит не по присущим им склонностям, но вопреки им.
Одна из излюбленных Щепанским ситуаций, дающая возможность для таких именно размышлений, появляется уже в рассказе «Конец легенды», принадлежащем к числу самых ранних вещей Щепанского, но опубликованном лишь в 1956 году в сборнике «Сапоги».
Начало рассказа приводит читателя в вокзальную толпу времен оккупации. Из толпы — как бы кинематографическим приемом, крупным планом — выхватывается один человек. У него нет имени, только кличка, и кличка эта Серый. «Действительность оборвалась для него на последнем ночном постое… Называли там друг друга именами животных, деревьев и птиц, поминали в разговорах названия глухих лесных нор и мельниц, неведомых картам ручьев и болот, причем все эти названия были полны для каждого живым, почти одушевленным содержанием». Серый — партизан, который впервые за все время войны соприкасается с давно покинутым миром, и самым большим потрясением для него оказывается то, что мир этот почти не переменился, «что он увидал его таким же, каким был им покинут». Тут наступает и второе потрясение: Серый начинает сопоставлять со вновь обретенным миром самого себя и убеждается в том, насколько переменился он сам.
Все это происходит в дни рождества, накануне встречи Нового года. И вот Серый попадает в знакомый с детства дом добрых знакомых, где за время его отсутствия девчонки успели превратиться во взрослых девушек, где оживленно и весело готовятся к новогоднему маскараду и где вокруг него сразу начинается веселая суета, такая страшно далекая от всего, что он оставил в лесу.
Тут никто не менял имен. Тереза осталась Терезой, Иза — Изой. Хозяин дома, господин Войно, не изменил ни одной из своих привычек, запомнившихся Серому с тех пор, как он в последний раз был в этом доме. И к самому Серому внезапно возвращается его собственное полузабытое имя — Юзек… Казалось бы, все складывается так, что утомленный и выбитый из колеи герой должен наконец отогреться в этом обойденном войною доме и обрести давно утраченное равновесие. Однако равновесие не возвращается. Напротив, война настигает его и здесь, от нее нет отпуска; то, что было пережито в лесу, безвозвратно разлучило его с прошлым, поставило непереходимые рубежи, лишило общего языка с теми, кого он вновь повстречал в этот новогодний вечер и кто невредимым дошел сюда со своими привычками, взглядами, увлечениями. Было все это прежде и у Серого — интерес к искусству, склонность к философским абстракциям, защита абстрактных идеалов, — и все это оказалось давно растерянным в лесных укрытиях, в грязи и крови последних месяцев его жизни. Он не может ответить собеседникам даже на простые вопросы. «Ведь были у вас бои? — спрашивают его. — Были успехи?» Но что толку рассказывать здесь об этих боях и успехах? В лесу говорилось: «Сегодня у нас будет пу-пу!..» — и все знали, что это означает предстоящую схватку, из которой не все возвратятся живыми. И после схватки тоже говорилось немного и чаще всего о самом незначительном. У людей там была общая судьба, и они привыкли понимать друг друга без слов. А тут нужно выискивать поражающие воображение сюжеты, вспоминать нечто необычное, умалчивать о вещах, не подходящих для девичьего уха. Да что там девичье! Неосторожное упоминание о том, что они не могли обременять себя пленными, оказалось непонятным хозяину дома. «Ведь это ненужная жестокость!»
Но особенно постылым и глубоким становится для Серого его отчуждение от людей, окружающих его в этот новогодний вечер, когда он постигает все суесловие привычных диалогов, всю пустоту звучащих вокруг многозначительных речей и громких слов. «Исторический эпос… Легендарные подвиги…»
«Так легко уйти от ответственности за конкретное дело, если знаешь немного литературу…»
И тогда возникает самый важный вопрос, настойчиво и неотступно требующий ответа: «За что вы боретесь? За какую Польшу?» Этот вопрос возникает с разных сторон. На него нужно ответить — не спрашивающему, а самому себе. Здесь, в доме Войно, его задает сверстник Серого, который вообще избегал всякой борьбы, отсиделся в сторонке. Но тот же вопрос был уже однажды задан Серому в лесу, когда невдалеке от их отряда расположились парашютисты Армии людовой. Серый заговорил с одним из них и услышал от него: «За какую Польшу вы боретесь? За такую же, какой она была раньше? За санационную, капиталистическую, помещичью?» Серый не был готов к ответу — ни тогда, ни долгие месяцы спустя, в канун последнего военного года.
Не заданный вслух, тот же скрытый вопрос снова явственно звучит в «Мотыльке».
Это может показаться анахронизмом. Разве сама история не дала ответа на этот вопрос уже четверть века тому назад? Кто же не знает, кому досталась победа и какую Польшу построили победители, очистив от захватчиков свою землю?
И все же вопрос этот, как один из самых насущных, продолжает возникать в современной польской литературе, и на него по-своему отвечают и Тадеуш Конвицкий в своем «Современном соннике», и Адольф Рудницкий в новых «Голубых страницах», и Ежи Анджеевский, и Юлиан Стрыйковский, и с ними Ян Юзеф Щепанский в «Мотыльке».
В этом заключается один из важнейших элементов долга писателя: объяснить не только своему поколению, но и последующим, почему история складывалась так, как она сложилась, а не по-другому.
Для того чтобы найти свой ответ, Щепанский обращается к детским и юношеским воспоминаниям. Они дороги ему каждой своей подробностью, и тем сильнее боль, которую он испытывает, обнаруживая во всем, что с самых ранних истоков формировало его жизненный опыт, симптомы смертельной болезни, уже тогда обрекшей этот мир на гибель.
Первое соприкосновение с темой смерти происходит в главе «Мотылек», открывающей книгу и давшей ей название. Это одно из самых ранних воспоминаний лирического героя, ведущего повествование. Память возвращается в безоблачные годы самого начала жизни. В сад, который казался огромным как мир и заключал в себе для ребенка его Вселенную. К детской игре, когда обыкновенные сосновые шишки — «большие, коричневые, блестящие, будто их кто-то почистил пастой», — так легко одушевляются и могут превратиться в коров. А другие, «маленькие, мягкие, влажные от смолы, со слипшимися зелеными лепестками, розовыми по краям», — это овечки. А стоит только захотеть, и коровы тут же превратятся в лошадей, а овечки станут жеребятами. И все это будет совсем взаправду.
Это свойство — творить чудеса, по-своему пересоздавать мир и убежденно верить в свое всемогущество — присуще всем детям, и об этом очень точно писал Юлиан Тувим. Он сказал, что рано или поздно это свойство утрачивается. Но некоторым удается сохранить его, и такие люди становятся поэтами.
Глава «Мотылек» написана, как стихотворение. Точнее, как лирическая притча.
Несложная на первый взгляд тема обретает поэтическую глубину. В притче появляются подспудные, еще непостижимые для героя смыслы, и короткий эпизод оказывается развернутым символическим образом, вмещающим в себя главное содержание книги.
Среди шишек-жеребят, среди капель росы мальчик видит сухой листик, которого только что не было. Листик движется. Он вползает на детскую ладонь. Раскрывается, блеснув на миг «черно-коричневыми крапинками на пушистом бархате». Листик оказывается мотыльком. Он «не прилетел, а пешком вышел из травы. Может быть, он болен?»
Мальчик заговаривает с ним как с приятелем. «Здравствуй… Где ты живешь?.. Покажи, какие у тебя крылышки…» Детский глаз изменяет масштабы. Все видно крупно, ясно. У мотылька волосатые ножки. За детскую руку он хватается словно бы маленькими коготками. Мальчик хочет помочь ему раскрыть крылья, но вот они уже не те, что были: бархат местами вытерт. Это, наверно, плохо.
Начинается дождь. Надо помочь мотыльку спрятаться, не промокнуть. Мальчик находит ямку-домик и принимается заталкивать мотылька туда. Нет, это не насилие. Ведь мальчик очень осторожен. И он очень искренне хочет, чтобы все было «как лучше». Но, «коснувшись этой беззащитной хрупкости, он почувствовал дрожь, похожую на отвращение. Мотылек отчаянно хватался ножками за его руку, нужно было немного дернуть, чтобы его оторвать». Но ведь нельзя же, чтобы мотылек промок. А отверстие слишком маленькое. «Голова мотылька входила в него без труда, но крылышки не пролезали. Теперь, уже сложенные, они качались из стороны в сторону, а ножки беспомощно перебирали воздух».