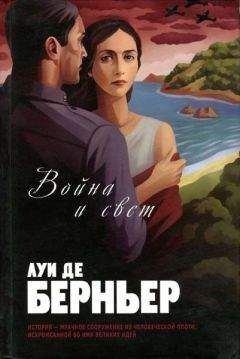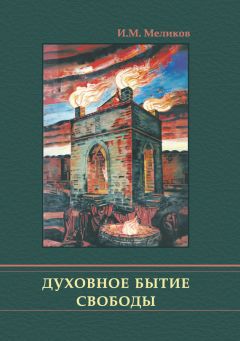— И еще одно, — продолжал ага, будто никто его и не слушал. — Я видел поля сражений, усеянные телами юношей и стариков, слышал вонь гниющих трупов, которые не успели похоронить. Я видел, что творят с женщинами и детьми. Султан-падишах объявил эту войну священной.
Рустэм-бей замолчал, а Лейла не поняла и переспросила:
— Священная война?
— Да, священная. Султан-падишах никогда не был на похоронах разложившихся трупов. Тебе я скажу, мой тюльпан, хотя никому другому не сказал бы, иначе моя репутация… Обещаешь не болтать?
— Не болтать о чем?
— О том, что я собираюсь сказать.
— Я никому не скажу, раз ты не хочешь. И кому я могу проговориться? Памук?
— Ты любишь поболтать с Филотеей и Дросулой. Иногда часами. Не сомневаюсь, что сказанное здесь повторяется в городе.
— Но о чем я не должна говорить? Обещаю, никому не передам, ни девочкам, ни даже Памук.
— Мое мнение о священной войне мне бы лучше при себе держать. Не хочется прослыть вероотступником. Я думаю… Если война бывает священной, тогда Аллах не свят. В лучшем случае война бывает необходимой.
— Ох! — Лейле надо было обдумать услышанное, чтобы суть улеглась в голове.
Рустэм-бей поднялся, посмотрел ей в глаза и, нежно коснувшись ее щеки, иронично улыбнулся:
— Знаешь, не особенно надейся, что я уцелею. В войну окрестности всегда кишат уголовниками и бандитами, поскольку вся армейская шваль при первой возможности дезертирует, прихватив оружие. Я буду гоняться за ними с непобедимыми отрядами из калек, стариков и мальчишек.
— Я хочу, чтобы ты уцелел. — Глаза Лейлы набрякли слезами.
— Может, лучше плюнуть на несокрушимые отряды и ловить бандитов самому, — сказал Рустэм-бей. — Пожалуй, надо подготовиться.
Снова погладив ее по щеке, он ушел в дом. Лейла села на изгороди и задумалась. Ей было страшно за Рустэма и себя.
С горшочком в руках Поликсена торопливо шла по улицам, вновь поражаясь тому, каким тихим стал город после ухода большинства мужчин. Всего несколько дней, а уже опустел — на что ни глянешь, все казалось покинутой декорацией: ни лиц, ни теней, ни хриплых низких голосов, эхом отражающихся от стен. Исчезли привычные запахи пота и табака, странно выглядели столы в кофейне без лоботрясов-завсегдатаев, склонившихся над нардами. С фронта никаких вестей. В огромной и бестолковой империи, осаждаемой со всех сторон и издерганной бесконечными атаками, женщины понимали, что муж или сын погиб, лишь когда о них не было ни слуху ни духу годами.
У дома Нермин Поликсена скинула опорки перед черным ходом, постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. В полутьме хозяйка чистила лук, и потому сама не знала, от чего плачет.
— Ты бы чистила под водой, — посоветовала Поликсена. — Тогда не так ревешь.
— Если б только от лука… — поежилась Нермин.
— Как ты?
— Двоих сыновей отправила. Каратавук пошел вместо отца, Искандер беснуется. Говорит, собственный сын его обманул.
— Это благородный обман.
— Да, поступок добрый, вот только вернется ли он? Султан призывает, мужчины идут умирать, а женщинам остается глотать пыль и пить слезы.
— Мехметчик тоже в бешенстве. Его не пустили с Каратавуком. — Поликсена коснулась локтя подруги. — Все в руках божьих. Господь все устраивает, нам неведомы его замыслы, но он-то их знает. У него решено, и где воробышку упасть, и куда ветру песчинку занести.
— Он посылает нам тяготы и горесть. Хочется его спросить: чем мы это заслужили? Каратавук обещал писать письма — я не говорила? Спрашиваю, как? Думала, какого товарища попросит, а он говорит, Мехметчик его научил, когда еще маленькими были, палочками в пыли писали. А я и знать не знала. Удивилась я, обрадовалась, а потом думаю, как же я прочту, письма-то?
— Найдешь кого-нибудь, прочитают.
— Я частенько задумывалась — что, если б мы знали грамоту? И говорила себе — а зачем? Чтение не про нас. Чего читать-то? Какая наша жизнь: копайся в земле, стряпай, детей рожай — что толку в чтении? Чего еще узнавать? — Нермин помолчала. — Теперь вот мальчики ушли, и я понимаю, какой толк.
Женщины посмотрели друг на друга, Поликсена протянула горшочек. Нермин узнала работу мужа, и под ложечкой потеплело.
— Это тебе, — сказала Поликсена.
— Что там? — Нермин подняла крышку и заглянула.
— Оливки. С нашего дерева. У нас поверье: будешь есть оливки, и родные благополучно вернутся из отлучки. Нам всегда помогало, может, и у тебя получится. Съедай каждый день по одной, и сыновья вернутся.
Нермин растрогалась.
— Ой, тебе, может, лучше для себя оставить? — спросила она. — Мехметчика ведь заберут в трудовой батальон, мне Каратавук говорил.
— У нас хорошее дерево, — ответила Поликсена. — Оливок полно. Мы их не едим, пока кто-нибудь не уедет. Кончатся — я тебе еще принесу. А когда сыновья вернутся, отдай горшочек, ладно? Он такой славный, и у меня их не так много. Искандерова работа.
— Я знаю, — сказала Нермин. — Держу любой мужнин горшок, и будто Искандера за руки взяла. Так спокойно становится. Чувствую его сильные пальцы.
— Мне пора, — засобиралась Поликсена. — Дома ни крошки, надо, как всегда, из ничего чего сочинять.
— Возьми луковицу, — предложила Нермин. — Можно тебя ещ кое о чем попросить?
— Да?
— Спасибо тебе за оливки. Не могла бы ты еще поцеловать икону и попросить вашу Панагию, чтоб приглядела за Каратавуком?
— Я заскочу в церковь на обратном пути, — обещала Поликсена. — Ты держись.
Нермин помахала рукой и слабо улыбнулась. Напомнила себе: надо попросить мужа, чтобы привязал лоскуток к красной сосне, и хорошо бы сходить к гробнице — набрать оливкового масла, омывшего кости святого. Вдруг кто из сыновей вернется раненым, будет чем лечить. У черного хода Поликсена сунула ноги в чувяки и вновь зашагала в странно притихший город.
На востоке Анатолии беспорядки творились десятилетиями. Ведя обособленную жизнь в обособленных поселениях, армяне и другие народности неутомимо держали друг друга за глотку, делая друг другу банальные, но жестокие подлости, так часто повторяемые теми, кто глубоко привержен плотскому наслаждению, кое приносит обоюдная крайняя ненависть. Особенно скверные отношения сложились у курдов и армян — и те и другие были убеждены в превосходстве своей нации и религии. Курды были фанатиками ислама, хотя вряд ли кто-то из них прочел хоть слово в Коране, армяне же непоколебимо верили, что являются потомками Ноя, и это делает их особенными. Беглое знакомство с Библией открыло бы им очевидное: если библейское изложение верно, отпрысками Ноя являются абсолютно все. Многие армяне желали автономии даже там, где проживали в меньшинстве. Курды в то время были еще относительно лояльны к государству, а само государство слишком погрузилось в хаос, чтобы навязывать терпимость или порядок отдаленным и неразвитым районам, где жизнь стала равно рискованной и ужасной для всех наций. По сей день тамошние курды и потомки армян рассказывают одинаково жуткие истории друг о друге; вероятно, самая распространенная — как приходилось маскировать девочек под мальчиков, а женщин под мужчин. Армянских партизан вооружала щедрая благотворительность российских армян и подзуживала Великобритания, чьи политики рассчитали, что независимое армянское государство станет превосходным буфером для сдерживания русских.
Различные партии годами жили в ожесточенной междоусобице, предсказуемо сопровождавшейся пропитанной ненавистью литературой, что неизбежно разъединяло народности, веками жившие бок о бок. Империя проводила официальную политику «оттоманизации», и все нации наделялись равными правами, свободами и обязанностями. Последние включали в себя и военную службу, от которой любой мог отбояриться, лишь уплатив особый налог. В результате имперскую армию заполонили рекруты из бедных семей, которые не желали служить, но не осилили пошлину. И поэтому в османской армии было много армян, мечтавших о независимом армянском государстве.
Первый шаг к великой трагедии армянского народа был сделан во время боев на восточном фронте, когда под предводительством Гаро Пастермаджяна, депутата законодательного собрания Эрзурума, большинство офицеров и солдат-армян 3-й Армии перешли на сторону русских и вместе с ними сеяли на своем пути грабеж и разорение в мусульманских деревнях.
Оттоманы, кипя негодованием от столь подлой измены, вывели всех оставшихся армян из состава 3-й Армии и отправили их в трудовые батальоны, где условия были так тяжелы, что поднялась волна дезертирства. Вскоре в османском тылу появились бродячие банды «вольных стрелков», иногда с русскими командирами, и не важно, как их называть — террористами, бандитами или борцами за свободу, поскольку они легко совмещали все три ипостаси. Эти отряды обрывали телеграфные линии и взрывали мосты, атаковали колонны с боеприпасами и провизией, а также караваны с ранеными, шедшие с передовой. Успеху набегов на курдские и черкесские деревни весьма способствовало то обстоятельство, что всех трудоспособных мужчин призвали в армию.