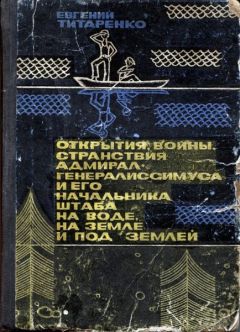Раненых много, большинство из 64-й и 57-й армий, с той стороны кольца, с юга, с севера.
— Пять суток везли… Всю душу вытрясли… — ворчит кто-то в углу.
— Шоферов бы всех этих на передовую. Разжирели… Торопятся куда-то…Это откуда-то уже из другого угла.
— И без курева все время… Там, говорят, получите. Дождешься…
— Повязка вся промокла к чертовой матери…
— Сестра, а, сестра… Двое суток не оправлялся… Дала бы утку…
Сестры сбились с ног, проходы завалены ранеными, коптилки от сквозняков поминутно гаснут.
В палату попадаю уже утром к завтраку. Маленькая, на пять человек, командирская. Санитары ставят носилки посреди комнаты.
— Где свободная койка?
— Вон туда, на место Варламова. Посмотри только, переменили ли простыни.
Раненые, завернувшись в одеяла, сидят на койках — хлебают что-то из глиняных мисочек. Один спит.
— Из какой армии?
— Шестьдесят второй.
— Не из тринадцатой гвардейской?
— Нет, сто восемьдесят четвертая.
Долговязый с раскосыми глазами парень, в коротких, чуть ниже колен кальсонах, подсаживается на мою койку
— Ну-ну, рассказывай, сосед… Как там? Взяли вы уже баки?
— Черта с два…
— А наших не передвинули, не знаешь? Говорили, что правее вас поставят.
— Пока нет. Правее — девяносто вторая…
Еще двое подсаживаются, держа миски в руках между колен. Один безногий, на костыле, с гвардейским значком на рубахе, востроглазый и вертлявый, другой угреватый, но красивый. Черноглазый и курчавый.
— Нога, что ли? — спросил безногий.
— Нога.
— Осколком, пулей?
— Пулей. Из пистолета…
— Из пистолета?..
— Из пистолета.
— Где же это ты умудрился?
— Чего ж тут умудряться? Выстрелил фриц, и все. На то им и оружие дают.
— Кость цела?
— Голень ниже колена перебита.
— Полтора месяца как из пушки, — говорит раскосый и ставит миску на окно. — Это если остеомиелита не будет
— Чего не будет?
— Остеомиелита. Это когда осколки в свищ лезут Костяные. Тогда, пока все не вылезут, лежать будешь.
— А нерв задет? — спрашивает другой, похожий на грека.
— Черт его знает.
— Пальцы чувствуешь?
— Чувствую.
— А двигать можешь?
— Не пробовал.
— Попробуй.
— Как будто шевелятся.
— Твое счастье… У нас тут лежал один. Рана чепуховая — на десятый день зажила, а нерв повредило — радиальный на правой руке. Дали год отпуска — пока не восстановится.
— А он что — сам восстанавливается?
— Сам. Только медленно очень. По миллиметру в день. От места повреждения до кончиков пальцев. А если порван, тогда сшивать надо канитель дай боже.
— А вот у нас случай был, — перебивает раскосый и начинает рассказывать бесконечную историю о том, как одному лейтенанту отбило член и как хирург восстанавливал ему. Рассказывает он долго и подробно, со всеми деталями, но слушают все его с удовольствием. В госпиталях вообще охотно говорят о различного рода увечьях и ранениях и с особым удовольствием о своем собственном. И где его ранило, и при каких обстоятельствах, и как на плащ-палатке тащили, и как наркоз давали, а он не брался («выпил я перед тем малость»), и как осколок «вот такой величины» вытащили, и как в машинах потом трясли…
— Тебя тоже трясли? — смеется курчавый.
— Дай бог. Все внутренности наизнанку.
— А через Волгу как? На лодке?
— Нет. На лошадях. Стала уже Волга.
— Ну?..
— Неделю как стала. В одном месте только не замерзла — полынья осталась — против водокачки.
— Слава богу… Наладилось, значит, снабжение.
— Понемножку…
— И шамовка лучше?
— Не лучше, но больше. И хлеб вместо сухарей.
— Ну, а фрицы как? — перебивает безногий.
— Сидят. Огрызаются.
— Вот сволочи. И неужто бомбят еще?
— Бомбить не бомбят. Боеприпасы только сбрасывают.
— А наши?
— Тоже не очень. Раза три в день «Илюши» летают за бугор, по ночам «кукурузники».
— А «Ванюша»?
— «Ванюши» нет. Умолк.
— Не жизнь, а малина! — хлопает он рукой по колену и смеется: — Надо на передовую, а то зажиреешь здесь на булочках да манной каше… У вас там небось манкой не кормят…
— Надоела, что ли?
— Поживешь — увидишь. Утром манка, в обед манка, на ужин манка. Ни одна баба на тебя смотреть не станет.
— У Ларьки все бабы на уме, — смеется черномазый, сверкая зубами. — Ноги нет, а все о бабах…
— А о ком же! Полтора года баб не видал, а тут их пруд пруди. И врачи, и сестры, и кухарки-все бабы…
— А лечат как? — спрашиваю.
— Кто? Кухарки? На обед увидишь…
— Лечат ничего, хоть и молоденькие, — говорит раскосый, — с ног только сбиваются — раненых уж больно много.
— А сестры?
— Сестры ничего, жить можно. Наша — палатная, совсем хорошая. Варя. Вот хозяйка — та похуже. Белья хорошего не добьешься, БУ все, с завязками, ржавое…
— Ты ей скажи, чтобы тапочки дала, сама никогда не додумает. Ты кто лейтенант?
— Лейтенант.
— Тогда хуже. Она у нас капитанов и майоров только признает. В двенадцатую вот палату — там три капитана — дала халаты, а нам один на пятерых…
— А газеты есть?
— Газеты есть. Фронтовая на палату. А в красном уголке и «Правда», и «Известия», и «Красноармеец» есть. Ты ходил уже за ними, Ларька?
Ларька хватает костыль и исчезает в коридоре. Все это у него получается очень ловко.
— Староста палаты, — говорит долговязый. — Мировой парнишка. Лыжником был, а сейчас вот на костыле… Как выпьет — все здоровую ногу свою показывает, заставляет мускулы щупать. Первую премию где-то за танцы получил.
К вечеру я знаю уже всех. Знаю, что Ларька до войны был слесарем на заводе, что он представлен к двум орденам, что есть у него где-то в Саратове Вера, но что-то давно уже не пишет (много развелось там, видно, тыловиков в ремешках и хромовых сапогах), что командир их дивизии мировой парень восемь орденов уже имеет, что во втором отделении мировая сестра Дора, блондиночка такая, и он с ней того самого…
Долговязый с раскосыми глазами оказывается моим коллегой — полковым инженером. Зовут его Серапион, фамилия Будочка, и вообще все в нем неожиданно, не так как у других. Он самый высокий в палате, но кальсоны на нем самые короткие. Борода у него растет очень бурно, но только под подбородком и на шее, а усов никаких. На ногах у него по шесть пальцев, и это является предметом бесконечных и не очень разнообразных острот. Родился он где-то в Баренцевом море на ледоколе, во время шторма, отец у него был капитан. В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии. По профессии техник-строитель, в армию пошел добровольцем, хотя и имел броню. Ранило его тоже по-глупому. Бомба попала в двух шагах от него в походную кухню, но не разорвалась. Перебило оглоблю, она отлетела и впилась в землю, а по пути перебила ему руку. Сейчас она уже зажила, он комиссовался и со дня на день ждет получения документов.
Третий — мой сосед по койке. Когда меня принесли, он спал, завернувшись с головой в одеяло. Проснулся только к обеду. Маленький, кругленький, розовый — абсолютно лысый, он приветливо улыбается:
— Капитан Сумароков. Никодим Петрович. С кем имею честь?
Представляюсь.
— Разрешите узнать, куда ранены?
— В ногу.
— С переломом?
— Да.
— И гипс наложили?
— Нет еще.
— Завтра наложат. Здесь хорошо накладывают. Надо только, чтоб сама Вера это делала, а то старшая из первого отделения кости не умеет направлять.
Он все время улыбается и поглаживает лысину.
— А мне, голубчик, в живот угодило. Но как угодило! Вы только послушайте…
И начинается традиционный рассказ о пуле, брюшной полости, наркозе и прочих прелестях. А вообще он симпатичный. Ему шестьдесят лет, в прошлом он был счетоводом в Наркомлеспроме, сейчас служит в политотделе армии и ждет писем от жены, которая эвакуировалась в Сибирь.
Осколок, который ему попал в живот, — маленький, величиной с горошину, он держит под подушкой, в спичечной коробке, завернутым в ватку, и с охотой его всем показывает, с улыбкой приговаривая: «Вот такая вот мелочь — грамма в ней нет, а может на тот свет отправить». Вообще говорит он много, с увлечением, и круг его познаний безграничен. Он знает чуть ли не всех генералов Красной Армии по имени и отчеству, самым подробнейшим образом может рассказать ход Бородинского сражения, с указанием всех действующих частей и их командиров, наизусть знает боевые данные и фамилии капитанов, участвовавших в Цусимском сражении, без запинки скажет, сколько километров от Саратова до Москвы или от Киева до Конотопа.
Главный его слушатель — Бояджиев, младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угри на лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло, как в тогу, читает нам монологи Чацкого, Незнамова, Фердинанда или Карла Моора до войны он был любовником в каком-то театре.