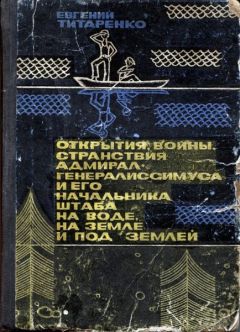Главный его слушатель — Бояджиев, младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угри на лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло, как в тогу, читает нам монологи Чацкого, Незнамова, Фердинанда или Карла Моора до войны он был любовником в каком-то театре.
— Не так, не так… — ворчит Никодим Петрович, сидя на своей койке, тоже завернутый в одеяло — в палате прохладно, а халатов нет. — Больше души… Души больше… А ты все на голос… Смотри, какой красный стал… Вот Орленев, например…
И начинаются воспоминания об Орленеве.
Иногда Бояджиев поет — у него довольно приятный, комнатный тенор, а Ларька аккомпанирует на мандолине, и тогда наша палата набивается до отказа ранеными из соседних палат, а сестры вздыхают и не сводят глаз с такого красивого, такого душки младшего лейтенанта…
В общем, ребята славные…
На ногу мне накладывают гипс — холодный, тяжелый, захватывающий колено. Химическим карандашом пишут на нем дату и фамилию. Для чего фамилию, никак не могу понять, но так уж заведено. Начальница отделения, очень хорошенькая, но строгая и малообщительная Вера Афанасьевна, говорит, что только через месяц снимут, а может, и больше.
— Дней через десять начнете ходить, а пока лежите. И вот я лежу. Смотрю в окно на кусочек крыши с водосточной трубой и то синее, то серое небо, слушаю хрипящее над головой радио и бесконечные рассказы
Никодима Петровича, глотаю стрептоцид и читаю «Гиперболоид инженера Гарина» — единственную на все отделение книгу, истрепанную до такой степени, что о содержании приходится больше догадываться, чем узнавать из самой книги.
В палате теперь тепло, клопов нет, желтое с красной полоской одеяло мягко и уютно, кормят белым, как вата, хлебом, снаряды вокруг не рвутся, на задание никто не посылает — что еще надо… Лежи и поправляйся, деньги все равно идут, даже с полевыми, и девать их все равно некуда…
По утрам нам ставят термометры, и каждый раз кто-нибудь нащелкивает градусник до 39 или 40 градусов и сует дежурной сестре. И хотя это повторяется каждое утро, сестра обязательно пугается (по-моему, специально, чтоб доставить нам удовольствие), а мы хохочем, как дети.
Вообще раненые мало чем отличаются от детей. Шутки, приводившие меня в восторг в третьем или четвертом классе, доставляют мне сейчас такое же удовольствие, как и пятнадцать лет назад. Спрятать чей-нибудь хлеб и слушать с наслаждением, как ругается обиженный с буфетчицей; приколоть записку сестре на спину; спрятать одеяло или подушку во время смены дежурных… Бог ты мой, как это весело… Мы грохочем на целое отделение, даже лысый, имеющий трех детей, и одного из них майора, Никодим Петрович.
Там, на передовой, времени не было заглянуть хоть одним глазом в «Фортификации» Ушакова: чуть свободная минута — сразу спать заваливаешься. А здесь времени хоть отбавляй, а немецкий словарь и какой-то журнал — будем же мы когда-нибудь в Германии! — без дела пылятся на тумбочке. Не хочется заниматься. Не хочется читать серьезных книг. Скорей бы вот в соседней палате «Таинственный остров» прочли… А пока что проигрываю Будочке одну за другой по десять партий в шахматы в день, выслушиваю бесконечные рассказы о любовных похождениях Ларьки или спорю с Никодимом Петровичем о вариантах открытия второго фронта или значении в нынешних условиях войны долговременной обороны.
— Вот я старый человек, — говорит он, поглаживая свою гладкую, как бильярдный шар, лысину, — в военном искусстве мало понимаю, но, по-моему, простите меня за смелость суждения, все эти линии Мажино и Зигфрида со всеми своими дотами, бетонированными казематами и подземными туннелями — все это чепуха, ничего кроме вреда они не приносят. Это мое глубокое убеждение… Вот вы — полковой инженер. Вы создатель той самой бетонной стены, которой немцы оправдывают сейчас свою неудачу в Сталинграде… А простите меня, человека неопытного, можете вы мне сказать, из чего она состоит? Много ли в ней бетона и всяких там драконовых зубов?
— Пожалуй, не очень, — уклончиво отвечаю я.
— Не очень? Вы говорите — не очень, — он весело смеется, и лысина его становится красной и блестящей, как спелый помидор. — Я у вас там не был, сооружений ваших не видал, но не поставлю и ломаного цента против десятидолларовой бумажки за тот десяток дзотов и тысчонку мин, которые вы там расставили…
Я молчу. На участке моего полка всего шесть, с позволения сказать, дзотов — два наката рельсов и полусгнившие шпалы сверху — и 560 мин. Но я молчу — пускай себе думает…
— Разве мины ваши удержали немцев? Разве дзоты? Черта с два, дорогой мой друг, черта с два… Вон тот Ванька и Петька, которые лежат сейчас в соседней палате и дуются в домино, вот этот самый наш Ларька — покоритель дамских сердец, оставивший свою ногу где-то у Тракторного завода. Вот этот бетон, который сдержал немцев. А вы говорите — «линия Мажино»… Да плевать я на нее хотел со всеми ее лифтами и электрическими поездами. Она превращает бойца в бабу, в автоматический пулемет… Стойте, стойте, не перебивайте меня! Вы читали корреспонденции Белякова — кажется, Белякова или Байдукова, не помню уже, — об американских лагерях в Аляске? Теплая и холодная водичка, электрические печки… Не читали? Прочтите… Обязательно прочтите. Очень поучительно… Или вот в ту войну. Брат мой был во Франции с экспедиционным корпусом. Прапорщиком. Два «Георгия» заслужил. Сейчас инженером где-то в Новосибирске. Вы бы поговорили с ним. Он бы уж вам понарассказывал, как там англичане воевали. Нация спортсменов… Каждое утро душ, какао и прочие деликатесы… А как в окопы попали, коснулись матушки-земли, так сразу половина в лазаретах оказалась… Нет, все чепуха… Косолапый наш Иван, сморкающийся в пальцы и бреющийся раз в неделю, войну делает… Он, голубчик мой, только он…
Никодим Петрович торжествующе смотрит на меня своими маленькими веселыми глазками.
— И не только он. А и вы тоже, и Будочка, и любовник наш, который чинил на передовой пулеметы, сменив свои, как они у вас называются, Бояджиев, штаны эти в обтяжку — лосины, что ли? — на штаны с наколенниками, и даже покорный ваш слуга… Вот где она, собака, зарыта, уважаемый мой, вот где…
А я подливаю масла в огонь, подзадориваю его, доказываю, что нельзя же в конце концов отрицать роль техники в войне, а он ерепенится, входит в раж, размахивает руками…
Так и тянутся дни. Тоскливо, однообразно, но уютно, тепло и, главное, беззаботно.
На десятый день встаю. Два раза прохожу из угла в угол. Голова с непривычки кружится. Костыли скользят. Нога тяжела, как свинец, неудобная. Запыхавшись, опять ложусь. На следующий день еще. Потом выбираюсь в коридор, в перевязочную, а потом с помощью Будочки добираюсь до красного уголка.
Горизонты расширяются. День укорачивается. Появляются процедуры. Веселая, пухленькая хохотушка Зина массирует мне ногу. Не больную, а здоровую — говорят, помогает больной. Допустим. Все равно делать нечего, а массаж — вещь довольно приятная, особенно когда делают его не с вазелином, а с тальком.
От нечего делать торчу в перевязочной. Это вроде клуба или парикмахерской — там всегда узнаешь последние новости, и время как-то незаметнее проходит. Сядешь в углу, вытянув правую ногу, и перематываешь целые километры бинтов под уютную воркотню Клавдии Михайловны — перевязочной сестры. Раны все знаешь уже наизусть.
— Эге, Романов, смотри, как загранулировала у тебя. Дней через десять уже комиссоваться можно.
— Это все кварц, товарищ лейтенант. На глазах зарастает.
Клавдия Михайловна улыбается тихой, старушечьей улыбкой.
— А помнишь, с какой сюда пришел? Одни тряпки висели.
Романов смеется:
— Как не помнить. Вы их тогда прямо ножницами и в ведро. Новая, мол, нарастет… Не жалеете вы нас, больных.
Клавдия Михайловна даже краснеет от обиды.
— Что ты, сынок… Как это язык у тебя только поворачивается. У меня вот такой же, как ты, может, тоже сейчас в госпитале мучается. А ты говоришь… Постыдился бы…
— Ну, ну, тетя Клава, я же просто так. К слову пришлось.
— К слову… Сегодня вот привели одного. Ну совсем как мой. Такой же крепенький, румяный… Пуля в плече, до кости добралась. Ни поднять руки, ни опустить… Я увидела, так и обмерла — совсем Сенька…
У нее даже слезы наворачиваются на глаза.
— Сел на столе операционном и ногой стал мотать вперед-назад. Ну, совсем как Сенька мой. И улыбка даже такая. Рука как веревка болтается, а он улыбается — «режьте, говорит, скорей»… А тут как на грех весь новокаин вышел. Завтра только обещают привезти. Нет, говорит, не хочу до завтра ждать, мешает уж больно пуля, режьте так. А пуля глубоко, до кости дошла. Вера Афанасьевна говорит: хорошо, сделаем под общим наркозом. Тоже, говорит, не хочу. Меня от него потом два дня тошнит. Режьте так. Уговаривали, уговаривали — ни в какую. Не боюсь я боли, режьте, и все. Упорный такой… Так и не уговорили.