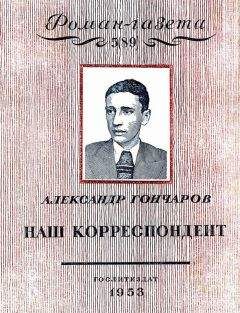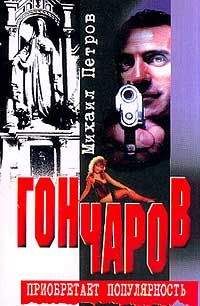Когда через час она снова появилась над передним краем, картина боя еще более изменилась. Огненный поток круто изогнулся в сторону противника, раздробился на мелкие ручейки и потускнел, хотя бой только разгорался. Артиллерийская канонада прекратилась. Слабо мерцало пехотное оружие, да часто мигали выстрелы противотанковых пушек, огнем и колесами сопровождавших наступающие батальоны. То и дело взлетали красные и зеленые ракеты, с помощью которых командиры управляли своими подразделениями. Летчице пришлось сделать несколько кругов над полем боя, чтобы разобраться, где свои, а где чужие.
К тому времени, как она прилетела в третий раз, наступающие части уже вели бой за населенный пункт километрах в десяти от бывшего переднего края. И всюду, куда только мог достичь взгляд поднявшейся под звезды летчицы, огни боя уходили далеко вперед.
«Голубая линия» была прорвана.
1
Наступление не останавливалось ни днем, ни ночью. Попытки противника задержаться на промежуточных рубежах, в заблаговременно укрепленных узлах сопротивления безнадежно провалились. Наши части предпринимали обходные маневры, преодолевали, казалось бы, непроходимые плавни, водные преграды и наносили врагу удары там, где он меньше всего ожидал. Противник откатывался на Таманский полуостров, и было ясно, что остались считанные дни до полной ликвидации кубанского плацдарма.
Когда был освобожден Темрюк, Тараненко начал писать поэму. На редакционном совещании при обсуждении плана номера, посвященного освобождению Тамани, раздались голоса, что этот номер обязательно должен быть украшен стихами. Поскольку из всего редакционного коллектива один Тараненко находился в близких отношениях с музами, было ясно, что надеются на него.
Подводя итоги обсуждения и утверждая план номера, редактор уже определенно заявил, что было бы очень хорошо, если бы Тараненко написал стихи. Конечно, он высказал это пожелание в очень тонкой и деликатной форме, учитывая, что сочинение стихов — дело щекотливое, что музы капризны и своенравны. Тараненко сказал, что попробует. По натуре он был, несомненно, лирик, но героическая тема увлекла его, и к утру у него созрел замысел поэмы, в эпической форме рассказывающей о битве за Тамань.
Сочинение поэмы отнюдь не освободило его от обязанностей начальника отдела. Но Тараненко был двужильным, да к тому же он умел работать очень быстро. Серегина всегда восхищала его способность схватывать главную идею корреспонденции, умение осторожной правкой подчеркнуть эту идею и убрать второстепенное, умение диктовать, молниеносно находя по-военному точные и скупые слова для выражения своей мысли.
Сдав Станицыну материал в номер, Тараненко брал плащ-палатку и уединялся на огороде. Там, среди подсолнечных будыльев и бурьяна, он погружался в пучины творчества. Как и подобает настоящему поэту, он прозревал грядущее, опережая события. Он уже видел Таманский полуостров освобожденным. Он видел бойцов, отирающих потные лица на берегу Керченского пролива, куда сброшен последний вражеский танк, слышал победный салют Москвы. Он искал слов — звучных и торжественных, достойных того, чтобы ими воспеть подвиги героев. Но, видно, слагать стихи было гораздо труднее, чем диктовать передовые, потому что Тараненко то и дело вскакивал с плащ-палатки и принимался вышагивать по огороду, цепляясь ногами за высохшую огудину.
Горбачев и Серегин, жившие с ним в одной хате, тактично не задавали Тараненко никаких вопросов и, проходя мимо огорода, делали вид, что не замечают поэта. Но через несколько дней он сам пригласил их на огород.
Бывают у некоторых авторов такие критические минуты, когда их охватывает чувство неуверенности. Написал человек, и сам не может понять: то ли это хорошо, то ли это такая дрянь, что немедленно надо выбросить в корзину. Конечно, в глубине души автор склонен скорее думать, что написанное им — шедевр. Но необходимо подтверждение, нужен трезвый голос со стороны.
Слушатели сели на плащ-палатку и, разумеется, закурили, а поэт воздвигся над ними колокольней, нервно полистал блокнот и загудел:
Соленый ветер алые знамена
Колышет на таманском берегу.
Еще стволы орудий накаленных
Дыхание победы берегут…
Дальше в поэме рассказывалось о том, как советские воины рвали «Голубую линию»; о монолитности нашей многонациональной армии; о тесном взаимодействии всех родов оружия, которое дала родина своим защитникам; о преградах, стоявших на их пути.
Но мы расплаты часа долго ждали,
Ничто нас не могло остановить.
И даже смерть герои побеждали,
И после смерти продолжая жить.
Описал Тараненко подвиг Донцова; героическую гибель пяти танкистов, сражавшихся в горящем танке до последнего дыхания; смерть бесстрашного Ибрагима Аскарова, погибшего от пыток, но не выдавшего врагу военной тайны; подвиг связного Куянцева, который был смертельно ранен, но, истекая кровью, все же доставил приказ, — всех, кто сражался за освобождение Кубани, кто обагрил ее землю своей горячей кровью в битвах с врагом, помянул поэт добрым словом.
Тараненко замолчал и с тревогой посмотрел на слушателей широко расставленными изжелта-серыми глазами. Но стихи понравились. Серегин сказал об этом сразу, Горбачев же — после долгой паузы, как всегда, тщательно обдумывая каждое слово. Слушатели пожали поэту руку, пожелали закончить поэму так же хорошо, как удалось начать, и ушли, а Тараненко, окрыленный похвалой, взялся за продолжение поэмы. Ему пришлось-таки сильно пришпоривать и подхлестывать Пегаса, потому что наши части, опережая Тараненко, вели бои уже у Ахтанизовского лимана.
На рассвете Серегин помчался в район боев. Часам к десяти он приехал в приморский поселок Кордон — последний населенный пункт на Тамани.
Дымились разрушенные рыбачьи хаты. На дворах высились штабели боеприпасов. На улицах стояли брошенные машины, валялись трупы гитлеровцев, оружие, какие-то серо-зеленые тряпки — следы беспорядочного и поспешного бегства. За поселком в неярких лучах будто задернутого марлей осеннего солнца тускло поблескивал пролив. На горизонте выступали из синеватого тумана смутные очертания крымского берега. Соленый ветер дул с моря. Невдалеке от берега, омываемая мелкими, зыбучими волнами, стояла затопленная баржа.
Слева от поселка далеко-далеко в море тянулась тонкая полоса земли — коса Чушка. Где-то на ней еще трещали пулеметы. Пушки, стоявшие за околицей поселка, сделали несколько выстрелов. Им отвечали немецкие орудия с той стороны Керченского пролива. Снаряды рвались в поселке.
Бой как будто еще продолжался, но уже не чувствовалось никакого напряжения, и было ясно, что все кончено. По улицам ходили группы бойцов и жители. Во дворе хаты, занимаемой командиром дивизии, ординарец раздувал зеленый самовар. Из люка самоходной пушки, прислонившейся к глинобитной стенке хаты, раздавались звуки аккордеона.
Серегин побывал у командира гвардейской дивизии, в полку, поговорил с участниками боя за Кордон, с жителями. Затем разыскал здесь в поселке штаб танковой бригады, первой ворвавшейся на косу Чушка. После разговора командир вышел с ним на крылечко, провожая корреспондента, как вежливый хозяин. Уже было тихо, выстрелов больше не слышалось. В конце улицы зашумел мотор танка-разведчика, возвращающегося с косы. Поравнявшись с командиром бригады, танк остановился, из открытого люка поднялся танкист, приложил руку к шлему и отрапортовал:
— На Чушке сопротивлявшийся враг уничтожен.
В летописи великой битвы за Кавказ была поставлена последняя точка.
2
И вот снова собралась почти вся редакция у Кости-отшельника. На этот раз не глубокой ночью, а с вечера! Косте приказано не жалеть аккумуляторов и, не отрываясь, слушать Москву: должен быть приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении Таманского полуострова. Как всегда при ожидании, время тянулось томительно медленно. Часовая стрелка застряла между семью и восемью и, казалось, не двигалась с места. Журналисты тихо разговаривали, но иногда отвечали друг другу невпопад.
К девяти часам сорока пяти минутам воздух в келье стал сизым. При каждой паузе в передаче все невольно подавались к приемнику в надежде услышать позывные. Прошло еще пять минут, десять… пятнадцать… Приказа не было.
— Ну, теперь — двадцать один час, — сказал Костя.
Все согласились с этим. О том, что приказа может не быть, никто и мысли не допускал.
Протекли невероятно долгие полчаса. В комнату снова начали набиваться журналисты. Опять накурили, опять истомились в ожидании, но… приказа не было и в двадцать один час.
Даже невозмутимый Станицын, и тот нервничал и стал спрашивать у Кости, не могли ли передать приказ на другой волне.