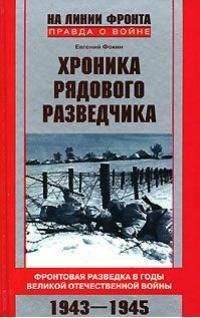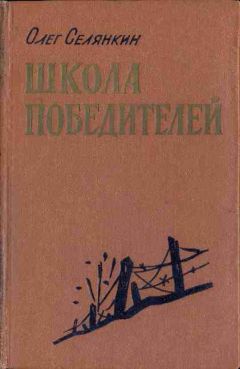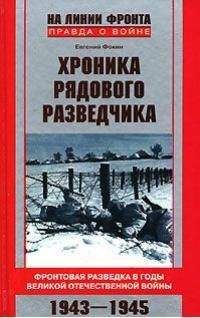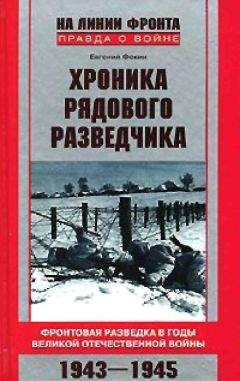Его пышущее здоровьем лицо, обычно серьезно-сосредоточенное, теперь от произведенного эффекта расплылось в довольной улыбке. Про таких обычно говорят — не ладно скроен, но крепко сшит.
— О своей двадцатипятилетней службе в армии могу рассказать многое. Учитывая, что и другие товарищи хотят поделиться воспоминаниями, буду краток. За неделю до начала войны окончил юридический институт. В дни войны был следователем, прокурором дивизии, а в конце войны заместителем председателя военного трибунала армии. Этому я отдал свои молодые годы. В то время мы, военные юристы, стояли на защите правопорядка, оказывая помощь командованию и политорганам, работая рука об руку с контрразведкой. Не секрет, многие в начале войны были шокированы продвижением немецко-фашистских войск на восток, их массированными бомбежками, окружениями, забывали о присяге, которую они давали перед лицом своих товарищей. На первый план выходила борьба с дезертирами, членовредительством. Не секрет — случалось, сдавались полками и дивизиями. Надо было наводить порядок. Без дисциплины нет армии. Мы вели борьбу с дезорганизаторами тыла, паникерами, распространителями ложных слухов, со шпионами и диверсантами. В своей работе опирались в первую очередь на приказы 270 и 227.
После этих слов в зале воцарилась тишина. Она такой бывает разве что в горах, в тайге. А он продолжал:
— Работы было много, и она была далеко не простой. Заявляю — мы были бдительными, осторожными и не всегда доверчивыми к людям, совершившим преступления. Главное — быстро распознать, кто перед тобой — опасный преступник или случайно поддавшийся страху человек. — Оратор вошел в роль. — Обстановка требовала того, чтобы дела рассматривались в составе трех постоянных членов трибунала, причем в упрощенном, быстром порядке — в течение суток. Мы вели и большую профилактическую работу, часто выступали перед бойцами и командирами и доходчиво разъясняли им об ответственности за военные преступления.
— А приговоры к высшей мере наказания приходилось выносить? — донеслось из зала.
— А как же, — даже не останавливаясь, продолжал он свое повествование, — особенно в первый год войны. Они приводились в исполнение перед строем вновь прибывших на фронт свежих частей.
Сидящие в зале были шокированы словами выступающего. Шумок голосов, возникший в задних рядах, покатился в сторону трибуны.
Председательствующий не выдержал и назидательно постучал по графину, что стоял на столе, призывая к порядку. Толстое, бабье лицо выступающего, с маленькими свиными глазками, вспотело, становилось злым и отталкивающим.
— Минуточку, минуточку, — зачирикала пожилая дама и, привстав, продолжала: — Я вот что хочу спросить у вас. Как это вам так быстро удавалось распознать, кто перед вами — свой или враг? Вы поделились бы своим опытом с нынешними органами правосудия — никак не могут привлечь к ответственности ни Мавроди, ни Березовского и десятки других.
В зале заулыбались.
— Много, вероятно, на тебе солдатской кровушки, — тихо, но довольно внятно донеслось из зала.
Напрасно стучал по графину замдиректора, по залу уже катился гул негодования.
Аудитория постепенно становилась неуправляемой.
— Разрешите и мне дополнить выступающего, — громко заявил один из присутствующих и, не дождавшись согласия председательствующего, направился к трибуне. Это был известный в институте главный инженер мастерской, отличающийся честностью и резкостью высказываний, которого остерегалось и руководство.
Подойдя к трибуне и не глядя на опешившего выступающего, он без обиняков начал:
— Смотрю я на вашу грудь и хочу узнать, как же оценивалась ваша работа, — и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Надо полагать, по количеству осужденных, по скорости формирования штрафных рот и батальонов. Ведь большинство из них, попавших туда, проявило мужество и героизм. Да и в плен часто фронтовики попадали не по своей воле. Я читал — летчикам Героя давали за большое количество сбитых самолетов, за выполнение боевых вылетов. У меня соседка Герой, так она на знаменитом «кукурузнике» совершила 620 боевых вылетов. А самой-то тогда едва за двадцать перевалило. Теперь ты скажи, а мы послушаем.
— Это решало командование, — процедил он, вытирая ладонью вспотевший лоб.
Вопросы сыпались со всех сторон. С отчаянием обреченного отстаивал юрисконсульт свою позицию. Но ответы его были малоубедительными, они только настраивали присутствующих на агрессивность.
А стоящий внизу у трибуны продолжал:
— Мой брат дошел до Берлина, был командиром стрелкового батальона. У него рубцов на спине больше, чем у тебя орденов, а вот наград втрое меньше. А ведь такие, как он и сидящие за столом фронтовики, добыли, завоевали Победу. Мы склоняем голову перед павшими в бою и теми, кто оказался на чужбине, а потом по возвращении такие, как вы, с размахом, не скупясь, одаривали их высылками или даже расстрелами.
Теперь юрисконсульт находился под перекрестными взорами сыновей и сестер тех, которых судил и жаловал. В настоящий момент за его спиной не было ни всесильной компании, ни карающей палицы «Смерша». Зал, до отказа забитый сотрудниками, смотрел на него враждебно, отчужденно, с жадным любопытством разглядывая его лицо.
Подбородок «вояки» затрясся, нахохлившимся он спустился с трибуны и в глубокой тишине дошел до своего места. Сознание собственной значимости не покидало его даже в эти драматические минуты.
Сколько было в этом зале собраний, встреч, но такого еще не случалось. Расходясь, каждый в душе унес щемящее чувство вины за прошлое, творимое такими вершителями судеб...
Минуя весы Фемиды
Стосковавшиеся за долгую зиму по работе пчелы весело жужжали у лотка улья, радуясь теплу и солнцу. Вокруг все цвело, весело чирикали драчливые воробьи. Только мой сосед по участку, сколь ни посмотрю, окаменело сидел за столом. На столе — бутылка водки и снедь в тарелке. Я подошел и поздравил его с Днем Победы. Он был одет в хорошо отутюженную армейскую форму, тщательно выбрит, воротничок подшит и резко подчеркивал продубленную ветрами и морозами кожу шеи.
Он молча показал на место рядом и потянулся за бутылкой. Мы чокнулись и выпили. Я почувствовал, что мой приход не ко времени, но и уходить было уже поздно.
— Другие вояки при всем параде, а где твои награды?
— Давай еще по рюмочке тяпнем, и я тебе расскажу о своих наградах.
Выпили, закусили, и он начал свой рассказ.
— Служил я в артиллерии наводчиком 76-миллиметровой пушки. Про нас, артиллеристов, обычно говорят: ствол длинный, а жизнь короткая. Самая тяжелая доля на войне, конечно, у пехотинцев, но и у нас тоже не сахар. Физически изнуряющий труд, особенно в наступлении. И ранен, и контужен был — кто ж без этого. А награды... Кому как. Помню, после полудня подошли к какому-то городишке. Батальон, который мы поддерживали, под шквальным огнем противника начал торопливо окапываться. А грунт — кремень, лопата не берет. За боевыми порядками пехоты, впереди нас, стали шесть «сорокапяток». На расстоянии метров трехсот — четырехсот от пушек, у кустиков, приступили и мы к оборудованию своих позиций. Копаем дворик для орудия и другие укрытия. Работа движется медленно. Гимнастерки — хоть выжимай. Прошел час, может быть, два, мы еще толком не окопались, как из-за построек выползли два тяжелых немецких танка и, перемещаясь вдоль обороны, принялись расстреливать наши «сорокапятки». Те тоже начали огрызаться. Но их огонь по тяжелым танкам был как для слона дробинка. Немцы били точно. Выстрел — и нет пушчонки. Летят части орудий, куски человеческих тел... Обстановка накаляется. Пехотинцы быстрее нас осознали потерю пушек. Их можно понять — они лишились поддержки огнем.
Наш командир батареи, офицер не из трусливых, от увиденного растерялся. Никто нами не командует. Расстояние от танков до наших орудий — метров шестьсот-семьсот. И мы как ягодки на ладони. И если раньше мы наблюдали, как немцы расстреливали «сорокапятки», то теперь они принялись за нас. Одновременный выстрел из обоих танков — и нет одного орудия с правого фланга. Второй залп — и нет с левого. По спине холодок от страха пополз. Скоро очередь дойдет и до нас. Наконец, мы остались одни — трех орудий уже нет, только раненые на земле корчатся. Народ побежал и от нашего орудия. Немцы все это хорошо видят и не торопятся, бьют не спеша, как на учениях. Кричу заряжающему: «Подкалиберный!» А он мне в ответ: «Чего кричишь! Командир батареи давно сбежал!» И вдруг вижу — пригибаясь, побежал прочь и мой командир орудия. Я за ним. Кричу: «Остановись!» А он быстрее. У меня в руках лопата была, нагнал я его и по черепку трахнул. А сам быстренько к орудию и за панораму. Хорошо вижу, как немцы перемещаются и наблюдают за нами, вероятно, смехом давятся. Эх, была не была! Мы еще повоюем! Кричу заряжающему: «Ты что, оглох?! Подкалиберный давай!» Слышу с облегчением в душе — рядом лязгнул замок, я вперился взглядом в панораму. Руки не дрожат, в голове ясность, цель ловлю, и только одна мысль бьется — врезать в «яблочко»! Навожу в левого, под башню. Выстрел. Попал! Он нервно дернулся и повернулся ко мне боком. По-видимому, повредил гусеницу. Навожу на второго. Выстрел. Снова удача! Теперь принялся их добивать. Сколько по ним снарядов выпустил, не знаю, сам стал не свой. Нами овладел щенячий восторг. Заряжающий после каждого выстрела, как заклинание, повторял: «Это вам за ребят, гады!»