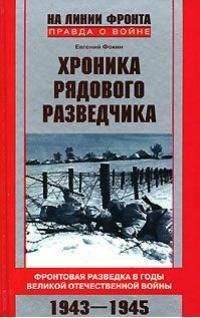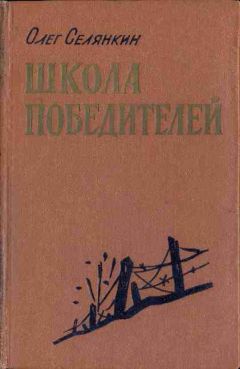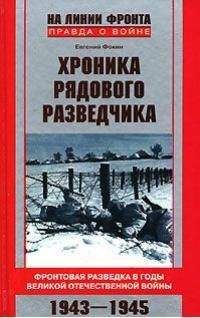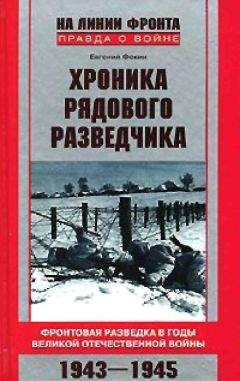Не успели мы с товарищем перекурить, как из-за домов выскочили два бронетранспортера и пошли шерстить нашу пехоту... Я снова к панораме. Видимость отличная. Выстрел — один замер. Еще выстрел — и второй дымит. Для контроля мы им еще врезали по одному. Капитан пехотный, комбат к нам прибежал. От радости рот до ушей, благодарит и бутылку водки сует. Распили мы ее, папироской закусили.
Под вечер в батальон командир нашего артполка приехал. Ему, конечно, обо всем доложили. Позвали и нас к нему. Поставили в строй. Полковник подошел, пожал руки, поздравил с достойной победой. Поговорив с комбатом, направился к машине. А мой заряжающий возьми да и вдогонку спроси: «А как насчет наград?» Он вернулся, подошел к нам, положил руки на наши плечи и тихо так произнес: «Высшую награду от Всевышнего вы уже получили. Вы остались живы. Это самая высокая награда». Командиром нашего полка был Герой Советского Союза А. И. Любимов, удостоенный этого звания за форсирование Днепра.
А в январе сорок четвертого я был тяжело контужен. Наши в спешке отступили, обо мне забыли. После узнал, что на меня наткнулись крестьяне и укрыли в сарае. Две недели они выхаживали меня, головные боли почти исчезли, рана стала затягиваться. Во время облавы на меня наткнулись немцы — так я оказался в плену. Завезли меня в город Любек. Там и встретил конец войны. Оказался в американской зоне оккупации. Приблизительно через месяц они передали нас соответствующим органам. Наступила унизительная и продолжительная процедура проверки.
Кто только нами ни занимался. Прошел шесть комиссий: сначала армейская контрразведка «Смерш», потом НКВД. И все следователи, дознаватели интересовались одним и тем же: чем занимался в плену, с кем был, почему работал на них? И угрозы, угрозы...
После того около года служил в армии. Демобилизовали. Ну, думаю, все, мои мучения остались позади. Но увы! Не успел дома освоиться — меня снова вызвали в органы. И снова допросы, допросы... И так почти ежемесячно. Предлагали сотрудничество — стучать на кого-то. Отказался. В плену умирал от непосильного труда, холода, голода. Я был пленный, беззащитный. Если там убивали тело, то здесь, дома, убивали душу. Нигде не брали на работу. Так продолжалось почти два года. Через знакомых отца, а он всю войну был политработником, дослужился до полковника, с трудом устроился на работу в изыскательную организацию. Работал, женился, сын появился. А меня все вызывают. И не пойму — кто я, то ли подследственный, то ли расконвоированный арестант. Поверь, у немцев было легче переносить лишения, чем издевательства со стороны своих. Это незаживаемая рана. Хотел на себя руки наложить, но жена спасла. Так продолжалось около десяти лет. Позже узнал: мне еще повезло — тысячи пленных, таких как я, прошли ссылки и лагеря Воркуты и Сибири. До сих пор меня мучает вопрос: в чем моя вина? Но время шло. Вроде потеплело. И как-то по весне, после войны, прошло уже порядочно, собрали нас, таких же бедолаг, в ДК имени Чкалова и всем дали по медали.
И сосед, куря папироску за папироской, все говорил и говорил. А ласковое солнце по-прежнему безвозмездно посылало тепло на землю. И она постепенно просыпалась, готовилась выполнить свое извечное предназначение — в том числе и кормить людей.
С ярлыком «врага народа»
Я встретил его на Ярославском вокзале. Невероятно, но я его узнал. Я увидел знакомый блеск в его глазах в тот момент, когда он, прислонив к стене тщательно отполированную деревянную клюку, снял большие затененные очки и, близоруко оглядываясь, принялся неспешно вытирать носовым платком вспотевший лоб. Вот тогда наши взгляды и встретились, и я понял, что знаю этого человека, точнее, он тоже узнал меня, и мы, улыбаясь, подали друг другу руки. Сразу же понял, что вокзальная сутолока не соответствует данному моменту — хотелось немножко поговорить, вспомнить молодость. Мы зашли в кафе. Присели за столик, взяли по кружке пива и окунулись в разговор. Через какое-то время само собой получилось, что говорить стал только Леня, а я только слушал, изредка стряхивая в блюдо пепел сигареты.
— Ты, наверное, помнишь, — негромко начал Леня, — что моего отца арестовали зимой тридцать седьмого. Он тогда работал сменным инженером на строительстве метро.
Навесили ярлык «враг народа», а я соответственно стал сыном репрессированного со всеми вытекающими последствиями. Уже мать позже узнала, что в тридцать девятом году его расстреляли.
В сороковом я окончил среднюю школу, но меня долго не призывали в армию. Все мои сверстники уже давно надели военную форму — служить в то время шли с охотой, а я только в декабре получил повестку. Вскоре оказался в строительной части под Выборгом.
Моими сослуживцами были студенты и крестьяне, журналисты и рабочие, художники и артисты. Признаться, солдатской дружбы у нас не было, была только подозрительность друг к другу. Обмундировали нас в старье. Присягу не принимали. Распорядок дня как у заключенных. Кормили плохо. Оружия не выдавали. Занимались строительством оборонительных сооружений и расширением аэродрома. Работали от зари до зари. Техника — кирка и лопата.
Тут началась война. Выдали наконец-то оружие. Теперь нас, как пожарную команду, перебрасывали с одного участка на другой. Кормить стали еще хуже, а работать приходилось больше. От недоедания мы совершенно истощены, а многие даже начали пухнуть. Во время одного из переходов я отстал от своей команды — просто не было сил идти. Меня задержали и на следующий день направили в воинскую часть — в пехоту. 19 декабря в первом же бою под Колпином меня ранило в плечо, рана была легкой, но долго не заживала — сказалась дистрофия.
После выздоровления был направлен в Ленинградское пехотное училище. После восьми месяцев напряженной учебы — снова на фронт. Под Спас-Деменском, не провоевав и трех месяцев, опять был ранен — в бедро. Хотя ранение было не из легких, быстро встал на ноги, после чего направили на курсы усовершенствования офицерского состава Западного фронта. Надо отдать должное — занятия с нами вели офицеры, обладающие высокой профессиональной подготовкой и культурой. Они много мне дали, и на фронте не раз вспоминал их добрым словом. В октябре из резерва фронта направили под Витебск в 134-ю стрелковую дивизию. В апреле 1944 года под Волынью в течение двух суток, не смыкая глаз, сформировал в соответствии со штатным расписанием батальон численностью 800 человек. С ним и отправился на фронт. Нашему батальону первому из дивизии удалось форсировать Вислу и захватить плацдарм, названный Пулавским. Бои носили ожесточенный характер. Вот здесь-то на третий день боев при очередной попытке немцев сбросить нас с плацдарма мне снова не повезло — грохот взрыва, и я вырубился. Получил сполна — осколочное ранение в грудную клетку, задето плечо, перебита голень. В общем, жив остался по случайности.
Когда стал транспортабельным, меня отправили в госпиталь. Так оказался в Конотопе. Выхаживали меня долго. Здесь же из газет узнал — все командиры рот нашего батальона были удостоены высших наград страны — Героев Советского Союза. Демобилизовался за месяц до Победы.
Дали мне третью группу инвалидности. Хожу с трудом, в груди хрипит. Одна нога стала короче на два с половиной сантиметра. Но не сдаюсь. Решил учиться. Успешно сдал экзамены и поступил в Институт международных отношений. Учился настойчиво. На старших курсах в подлиннике читал классиков английской и французской литературы. В пятидесятом получил «красный» диплом по специальности «референт-переводчик». Искренне признателен директору института, который позволил мне окончить институт.
Теперь органы стали более пристально и детально заниматься «инвентаризацией» родственников по всем направлениям, все чаще стали обращать внимание на то, что я сын «врага народа». На войне на это не обращали внимания — там было важно, как ты умеешь воевать. Теперь же для дипломированного специалиста, награжденного двумя орденами Красной Звезды и орденом Ленина, не оказалось места не только на дипломатическом поприще, но и вообще в России — у меня невольно возникало такое ощущение, что я лишний в своей стране, что на меня смотрят как на белую ворону. В дни войны я был такой, как все. Волна грозного времени подняла меня на высоту человеческого достоинства, а теперь, в мирное время, уже другая волна шмякнула в грязь.
Я надеялся, что скоро все прояснится. И действительно, отца реабилитировали, но это произошло значительно позже. А тогда рухнули все мои надежды. Я стал невостребованным, изгоем. Бандит отсидел срок — и снова на воле. А на меня навсегда навесили «бубнового туза». Обложили со всех сторон. Все правовые нормы по отношению ко мне были попраны. Я с ужасом каждый день ощущал свое бессилие, понимал, что мне не разорвать оковы, в которые был заключен. Трезвая оценка своих сил и возможностей была неумолима — у меня нет выхода из создавшегося положения. Война безжалостно обезобразила мое тело. Приду на пляж, а на меня как на снежного человека смотрят. Все видят страшные рубцы, но никто не видит ужасных ран в моей душе.