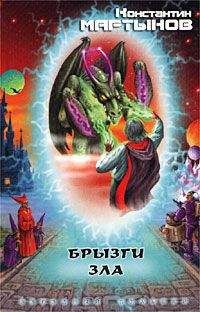Пострадал парень из-за вечного противоречия между долгом и любовью. Познакомился Цезарь с девушкой еще на первом году службы. Девчонка как девчонка — никаких тебе шиньонов, ни хны, ни басмы, ни синих ресниц. Старомодная, по-нынешнему-то, девчонка. Мозолистые ладошки, ситцевый сарафанчик да глазищи, как два агата. Увидел ее Цезарь впервые на вечере в солдатском клубе. Подойти смелости не хватило. Однако через парней с шефского завода узнал ее имя, фамилию, адрес. И в тот же вечер, возвратившись в казарму, — будь, что будет! — настрочил письмо. Ответила. Он снова написал. Опять прислала ответ. А потом, получив очередную увольнительную, как постовой милиционер, дежурил на перекрестке возле женского заводского общежития. И ведь додежурился.
— Не знаете вы, хлопцы, моей Маринки. В целом свете такой нету. В прошлую субботу я только с наряда сменился, прибегает дневальный с КПП и сует мне записку. Девчонка, говорит, приходила, просила тебя разыскать. Развернул, читаю, и аж сердце захолонуло. «Не приходи сегодня, Цезарь, заболела Маринка, в больницу свезли».
Я и не собирался идти в этот день, увольнение мне было обещано в воскресенье… Но она в больнице. И неизвестно, что с ней… И, как назло, субботний вечер, ни одного офицера в казарме. А с сержантом какой толк говорить, у него и прав-то всего только до ворот… Ну я, недолго думая, противогаз через плечо — и на проходную. Обманул дежурного. Посыльный, говорю, за командиром роты. Его срочно в штаб вызывают. Поверил. На трамвай — и к ней, в больницу… Часа через два вернулся, а ротный меня в канцелярии дожидается. Ну, и прямым ходом к капитану Семину…
Да, ничего не скажешь, история. Не намного лучше нашей. Что выпивка, что самоволка — по головке за такие штучки не гладят.
— А что же Марина-то?
— Да ничего серьезного. Полежала в жаркий день на сырой земле, затемпературила. Подозревали воспаление легких — не подтвердилось…
— А ты все бы вот так, как нам, и рассказал командиру роты. — Генка, чувствовалось, близко к сердцу принял беду Кравчука.
— Рассказывал…
— Ну и что?
— Пять суток, вот что… Что ж он, по-твоему, мою самоволку в разряд благородных поступков должен отнести? А ну как все Кравчуки с противогазами к своим Маринкам побегут, как это будет называться? Натворил дел, одним словом… Как думаете, Валерий, дадут мне хорошую характеристику?
— Ну конечно, — успокоил я Цезаря.
— Хорошо бы…
— Выходит, братцы, верно говорится — женщины до добра не доводят, — неожиданно сказал Генка.
— Ты бы помолчал, — оборвал я его, — на себя оглянись… Что с нами теперь будет? Подумал?
— Вам-то что, — сказал Цезарь, — у вас все впереди. У вас служба только начинается. Говорят, к новой парадной форме солдату белую рубашку выдавать будут. Здорово, в белой-то рубашке. А?
— Не обессудьте за любопытство, монсиньор, проекты законов вам присылают по почте или с нарочным? — Генка решил не оставлять без внимания сообщение Кравчука относительно новой формы.
— Все хохмочки, Карпухин? Лектор у нас выступал не так давно, морской полковник из Москвы. Он и говорил. В других, мол, армиях социалистических стран солдаты носят белые сорочки. И у нас будут.
— Да я разве против? — сказал Генка и, подняв голову, добавил, обращаясь к нам обоим: — Вы, старики, не обижайтесь. Хочется подурачиться. Может, всем повеселее станет.
— Дошло, выходит, господин оптимист, или как там тебя, — хотелось найти слова побольнее, похлестче, — Вот после учебы ребята поедут служить за границу, а нас, пьянчуг окаянных, в назидание потомству зашлют туда, куда Макар телят не гонял.
Генка тотчас отпарировал:
— Старик, оставь проповеди, Карпухина этим не проймешь. Карпухин выше любой проповеди. И служить Карпухин будет там, где ему, как пишут в твоей любимой многотиражке, прикажет Родина. Понял? Так что ты уж, сделай милость, не стращай ни Макаром, ни телятами. Что касается заграницы, то чего я там не видел? «Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий». Понял? Поэт на моей стороне.
— Выговорился?
— Считай, что так.
— Тогда приятных снов.
— Спасибо.
В камере воцарилось молчание. Где-то за стеной булькала вода, в коридоре лязгал подковками о цементный пол часовой. Я понимал, что уснуть, наверное, не удастся. А вы бы уснули, если бы оказались под арестом? Комбат дал пять ночей и пять дней на раздумье. Много, товарищ майор. Честное слово, много! Мне и нынешней ночи хватит с избытком. А за стеной все булькает и булькает. И часовой — не может он, что ли, постоять на одном месте? — изотрет все подковки о цемент. Скорей бы приходило завтра. На вещевом ли складе, на кэчевском ли, а может, в комендатуре — в общем, куда направит капитан Семин, будет лучше и легче: как-никак — дело. А тут… Лезут в голову всякие мысли, одна нелепей другой… А ведь предстоит еще пройти через чистилище комсомольского собрания. А если возьмут да исключат? И поделом, чего с выпивохами церемониться… Да нет, не сделают этого. Разберутся, что к чему… А вдруг?
— Валерка, не спишь? — шепчет Генка.
Тоже, оказывается, бодрствует. Бодрствуй, бодрствуй, оптимист. На пользу! Я молчу.
— Чего не отвечаешь, ведь не спишь, знаю, — бормочет Карпухин. — Слушай, а если и правда пошлют нас черт знает куда? Не со всеми вместе? Как тогда?
— На твоей стороне классик, чего тебе беспокоиться.
— А-а, — тянет Генка, — классик?.. Тогда в танковых войсках порядок.
Сразу за гауптвахтовским забором крутой откос, сбегающий к самой Волге. К его склону прилепились разномастные деревянные домишки, утонувшие в садах. Живут тут большей частью портовые грузчики, речные матросы-пенсионеры, шабашники, нелегальные краснодеревщики и валяльщики, работающие по ночам в сараюшках, в баньках, вкопанных по самую крышу в волжский крутояр. Сады здешние нам с Генкой были знакомы с давних пор по причинам, хорошо известным, думаю, не только средневолжанской ребятне. Не предполагал я тогда, что в садах этих может быть столько соловьев. Всю ночь напролет неслись в наш зарешеченный арестантский покой шальные трели. Может, из-за них и не спалось?
Карпухин поутру в ответ на мой вопрос усмехнулся:
— Соловьи? Старик, тебе показалось. Ты, наверно, не будешь баталистом. У тебя душа лирика. А насчет трелей — прав. Многоуважаемый товарищ Цезарь выводил их как по нотам — от перигея к апогею…
И он переключился на Цезаря.
— Слухай, душа любезная, у вас в роте никто не ходатайствовал перед вышестоящим командованием о сведении всех храпунов в одно подразделение? Боеготовность от этого, считаю, выиграла бы.
— Спать мешал? Да? — Цезарь развел руками и философски заключил: — Ничего, друг, привыкнешь. На службе ко всему привыкаешь.
В коридоре раздались гулкие шаги, звякнули алюминиевые тарелки.
— Судя по всему, согласно местным обычаям, наступает время приема пищи? — осведомился Генка. — Это я люблю, старики. Приятно, знаете ли, побаловаться кофейком, проглотить пару сандвичей…
— Может, потом не откажетесь от сигары, принц?
— От вас за версту несет провинцией, Климов. По утрам, после кофе, всякому уважающему себя принцу подают кальян.
… А взвод наш теперь на занятиях. Сегодня — вторник. С утра по расписанию политподготовка. Потом — преодоление полосы препятствий. Перед обедом — урок в классе подводного вождения. Интересно, черт возьми!
На полосе препятствий мы уже были. Капитан Бадамшин проводил занятие со всей ротой. Полосу преодолевали сержанты, а мы были в роли зрителей. Ух и штука, скажу я вам, эта полоса!
… По команде ротного на исходный рубеж вышли наш замкомвзвода сержант Каменев и командир отделения из третьего взвода, ротный комсомольский секретарь сержант Цветков. Оба в полной экипировке, с оружием…
— Газы! — скомандовал капитан.
Сержанты быстро надели противогазы, изготовились к броску вперед. И в ту же секунду раздался оглушительный грохот взрывов, треск автоматных очередей, и вся полоса вспыхнула огнем… Запылал макет танка, сваренный из металлических труб, утонул в шлейфах густого и черного, как деготь, дыма каркас двухэтажного строения с лестницами и переходами. Загорелся проволочный коридор — «мышеловка», пламя заплясало на буме, клубом взметнулось из окопов, рвов… Ад кромешный!
— Вперед!
Сержанты, взяв автоматы наизготовку, в два прыжка скрылись в огненной, грохочущей круговерти. Капитан стоял не шелохнувшись, подтянутый, стройный, похожий на иллюстрацию с плаката из альбома наглядных пособий по Строевому уставу.
Секунды оборачивались вечностью. Полоса горела и громыхала, оба сержанта находились там, в пламени и в дыму. Щемящий холодок сдавил горло, ладони стали мокрыми.
— Страшно? — спросил я Генку.