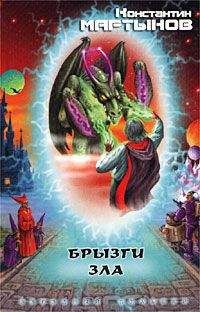— Трусишь, старик? — спросил Генка.
— Вот еще! С чего ты взял?
— Ладно, ладно, храбрись. Меня не обманешь…
— Психолог-физиономист, да?
— Малость соображаю…
— Про свою персону соображай, арзамасско-крыжопольский.
— А вот сердиться не надо, дорогой мой. Ты, наверное, считаешь, что во всем я один виноват. С одной стороны, верно, я. А с другой? Почему согласно требованию устава не удержал меня от дурного поступка? Взял бы тогда в курилке ту бутылку да оземь. Или об мою голову. Я бы не обиделся.
Что ж, он говорил правду, вина у нас одна на двоих. Как в детстве порция мороженого, как ученический портфель. Все пополам. Вот только стыд перед товарищами, перед лейтенантом, перед всей нашей второй танковой ротой пополам не разделишь. Не делится…
Взвод занимался на обычном месте, там, где стояли наши боевые машины. Мы подошли к лейтенанту. Сразу все солдаты на учебных точках вытянули шеи, обернулись в нашу сторону. Поочередно отрапортовали о прибытии с гарнизонной гауптвахты. Лейтенант Астафьев, ни о чем не расспрашивая, приказал идти в свое отделение.
И потом нас никто ни о чем не расспрашивал. Не считая, конечно, вопросов на комсомольском собрании.
Да и на собрании не так уж много было вопросов. Зачем? Дело ясное. Вкатили обоим по выговору с занесением… Единогласно. И все…
А служба шла своим чередом. От подъема до отбоя каждая минута на счету. Политическая и тактическая, строевая и физическая, огневая и инженерная, техническая, уставы, защита от оружия массового поражения, военная топография. Вон сколько разных наук надо познать солдату… А еще наряд по роте, караул. Наши товарищи уже были в карауле. Так что мы и в этом деле отстали от них.
Первый раз на посту…
— Пост номер семь… Под охраной состоит… Принял.
Растворяются во тьме шаги разводящего, караульных… И я остаюсь сам с собой наедине. Летняя ночь полна шорохов, звуков. В другое время вроде бы и не обратил на многие из них никакого внимания. А теперь чуть ветка прошелестит, сразу так и екнет под ложечкой. Всматриваюсь, прислушиваюсь…
… Двадцать шагов туда, двадцать — обратно. Двадцать — туда, двадцать — обратно.
Две фары на столбах выхватывают из темноты ворота танкопарка. А время будто остановилось, четверть часа прошло, как я заступил на пост… Только четверть часа!
Часовому нельзя отвлекаться от охраны объекта. Даже в мыслях. Но попробуй останови их, если они лезут и лезут в голову. Дома, наверное, давно спят: отец в шесть утра уходит на работу, если в первую смену… Спят, конечно.
И все, кто не занят в ночной смене, теперь спят. Во всяком случае, могут спокойно спать.
По ночам не спят лишь те, кто на постах. Для того, чтобы все остальные люди спали спокойно.
… Двадцать шагов туда, двадцать-обратно. Двадцать — туда, двадцать — обратно.
Спите, люди. Вместе со мной сейчас мерят сторожкими шагами нашу землю хранители тишины и покоя — часовые.
А времени словно не существует, одна сплошная бесконечность.
Непросто быть часовым. И очень здорово быть часовым!
… Вдали слышатся шаги. Они приближаются.
— Стой, кто идет?
— Начальник караула и разводящий со сменой!
— Начальник караула, ко мне, остальные — на месте!
Вот какая власть у часового! Приказывает даже товарищу лейтенанту Астафьеву. Разрешаю, мол, вам, товарищ лейтенант, приблизиться к моей особе. А вы, товарищ сержант Каменев, вместе с караульными постойте, удостоверюсь, что вы — это вы, тогда, пожалуйста, милости прошу ко мне на пост. А пока извольте подождать.
… Спят деревни, спят города. Люди досматривают счастливые сны.
В караульном помещении встречаемся с Генкой.
— Ну, как вахта? — поинтересовался он.
— Порядок. А у тебя?
— Спрашиваешь, — он выставляет большой палец. — Сам товарищ лейтенант проверял.
— Ну и что?
— Пару вводных выдал…
— Решил?
— А как же? Семечки! Вот Сокирянский боевой листок собирается выпускать. Карпухину, будь спок, место в стенной печати найдется.
— Тщеславная ты личность, Карпухин!
— Я-то? А как же! Дай срок, в отличники выйду, и ты про меня в газету заметку сочинишь. Слухай, Валерка, а может, и портрет приложишь? Я, так и быть, фотокарточку для такого дела не пожалею. Не за мзду служим, понятно, но от моральных стимулов не отказываемся.
И опять не поймешь, треплется или на полном серьезе выкладывает.
За окном брезжит рассвет. Веки наливаются тяжестью. Хочется спать. Укладываюсь на топчан и сразу проваливаюсь. На все положенные по уставу два часа.
* * *
… Под вечер возвращаемся в казарму. У входа на щите, где обычно вывешиваются свежие газеты, цветастое объявление:
«Сегодня в нашем клубе молодежный вечер совместно с шефами — комсомольцами и молодежью государственного подшипникового завода.
В программе:
1. Ратные и трудовые подарки воинов и молодых рабочих Родине (рассказы активистов нашей части и ГПЗ).
2. Художественная часть (совместный концерт солдатской и заводской самодеятельности).
3. Игры, танцы, аттракционы.
Начало — сразу после ужина.
Примечание: третий пункт нынешнего вечера будет повторен и завтра, в воскресенье. Начало — после кинофильма».
— Скажи на милость, — удивляется Генка, — двухсерийное веселье организуется. Интересно, по какому такому поводу? Не слыхал?
Я успеваю посторониться, потому что при подобных вопросах всякий раз получаю толчок под ребро.
— Не слыхал. Обратись с вопросом по команде.
— А зачем? Какое значение может иметь повод? Значение имеют игры, танцы, аттракционы. Ты, старик, насчет утюга похлопочи… Может, и ты, как Цезарь, свою Маринку встретишь.
А повод, оказывается, был. Открывая вечер, майор Носенко сообщил, что в понедельник мы выезжаем в учебный центр.
Лето стояло жаркое, сухое. Только в низине, по берегам совсем обмелевшей Черной речки, еще зеленела трава. А чуть повыше, вокруг палаточного городка, не осталось даже намека на зелень. Все выжгло солнцем. И было до боли неприятно смотреть на серые, словно обсыпанные пеплом, бугры, — виноват, высоты, по-военному, — на пожухлую листву изнемогавших от зноя деревьев.
К полудню танковая броня до того раскалялась, что к ней не притронешься рукой. Ну хотя бы дождик прошел… По вечерам в стороне зеленых лесистых гор собирались тучи. Сверкали сполохи молний, доносились приглушенные громовые раскаты. И мы, забравшись под брезентовый полог палатки, с надеждой прислушивались, не загремит ли над нами.
Но над нами не гремело.
А с утра опять вставало над выжженным учебным центром немилосердное жаркое солнце. И опять раскалялась танковая броня. И опять мы умывались собственным потом.
Маршрут по вождению танков знаком как пять пальцев. От рощи «Круглая» до высоты «Огурец», затем вокруг рощи «Фигурная» и прямо на обратные скаты высоты «Верблюд», а уж оттуда через самую маковку высоты со смешным названием «Никишкина шишка» — обратно. Всего несколько километров. Но каких километров!
На всей трассе — подъемы, спуски, повороты, развороты, мосты, ограниченные проходы, два глубоких, разбитых гусеницами брода через Черную речку…
И на всей трассе — рыжая густая пыль, подолгу не оседавшая на землю, зато очень быстро оседающая на наши лица, на комбинезоны, танкошлемы.
После первого же заезда мы и впрямь походили на трактористов.
А еще были марш-броски в противогазах, кроссы. И стрельбы. Правда, боевым снарядом из пушки мы не стреляли, но из пулеметов сожгли прорву патронов.
Во время коротких солдатских перекуров Карпухин нет-нет да и примется вслух вести подсчеты, во сколько обходится государству обучение только одного танкиста. Сержант Каменев как-то сделал ему замечание: что ж, мол, армия, выходит, государству в наклад? Генка не смутился.
— А что, и в наклад. Да только я же не об этом, товарищ сержант. Я о долге. Вон художник наш ротный, мой друг Яша Сокирянский, разрисовал-размалевал: долг, дескать, первейшая обязанность и прочее. Все это словеса. А я вот долг по-настоящему хочу понять. Государство, народ, стало быть, тратит на нас средства. И немалые. На танки, на топливо для них, на патроны, снаряды… на харч, на амуницию. Даже вот на какую-никакую гармошку для Шершня! Образно говоря, все это в долг нам дается, в расчете на то, чтобы мы этот долг службой, делами оплатили. Или не так, старики?
— Чем же тебе мои плакаты не понравились? — обиделся Сокирянский.
— Да не про них речь, — отмахнулся Карпухин. — Малюй себе на здоровье. Я про долг, а не про твое творчество. Твое творчество, господин Рембрандт, оставим на суд потомкам. А вот о долге судить нам. Я так скажу: служба военная не для забавы.