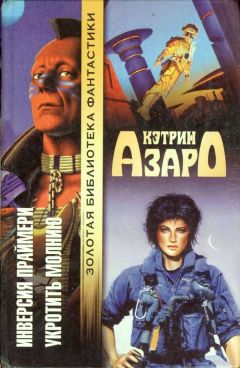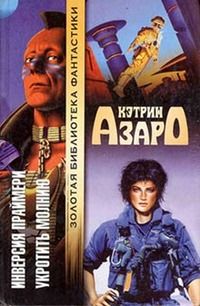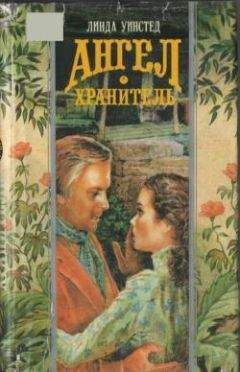— Не все ли равно?
— Нет. Не все равно. — Т. Т. еще понизил голос: — Этот Литвак — какой из него командир отделения?
— Да ты ж его не знаешь.
— Видно по нему. Видно, что он малограмотный.
Может, он был прав. Но мне было действительно все равно.
Я представил себе, как в нашу квартиру на канале Грибоедова приходит мое письмо, адресованное Шамраям, и мама Шамрай разворачивает его и читает…
Нет. Не мог я представить. Не доходило до меня, что Кольки Шамрая больше нет.
Дня два или три было на Молнии сравнительно спокойно. Ожидалось, что финны снова полезут отбирать остров, но они не лезли. Постреливали только. Глушили нас огневыми налетами, но они были короткими, потому что сразу вступали ханковские батареи и начиналась дуэль, снаряды шуршали и выли над нашими головами.
В то лето закаты были долгие, томительные. В небе будто пылал пожар, зажженный войной. Меж сосен сочился красный свет, каждая чешуйка на их стволах становилась медной, и отсвет небесного пожара ложился на валуны и скалы, обкатанные древними ледниками.
Солнце давно уже скрывалось за горизонтом, а в небе все еще менялись краски, перемещались полосы, возникали странные видения. Мне чудились корабли викингов. Они медленно наплывали, ощетинившись длинными копьями, потом медленно растворялись, но копья оставались и долго еще горели — багровые рубцы на темном полотнище неба.
Слишком долгими были закаты. Мы нетерпеливо ждали темноты. Днем на нашем островке можно было только лежать. Финны, которых отделял от нас узенький пролив, зорко следили за нами и посылали пулю на каждый шорох, на колыхание ветки, на звук голоса. Относительно безопасно было только за большой скалой, круто обрывающейся к южному берегу. Тут находился наш КП.
Ночью мы обедали. Мы питались консервами и сухарями, но на третью ночь с Хорсена пришла шлюпка с двумя большими термосами, в одном был борщ, в другом — пшенка, заправленная мясными консервами. Горячий борщ! Ух, как мы его хлебали!
Кроме того, Шунтиков каждому наливал в колпачок от фляги спирту. Я не сразу научился пить. Перехватывало дыхание. Шунтиков советовал при глотке не дышать через нос. Может, его советы помогли, а может, просто привычка взяла свое, но я понемногу научился, придержав дыхание, выпивать спирт мощным глотком. Сразу по телу разливалось тепло, и можно было опять лежать на холодном граните, вглядываясь в темноту, прислушиваясь к плеску волн и невнятному разговору ветра с соснами.
Мы ждали приказа идти вперед — брать Стурхольм. Это ж было каждому бойцу-десантнику ясно как дважды два: очередь за Стурхольмом. Но приказа все не было. И на гиблом нашем островке, где шагу не ступишь, чтоб не звякнула под ногой стреляная гильза, стал образовываться быт. Ну, бытом, положим, наше бездомье не назовешь, но все же: у каждого из восемнадцати появилось любимое место для сна — расселина, или щель меж двух валунов, или ямка среди сосновых корней, вгрызшихся мучительным усилием в гранит. Меня не переставала удивлять цепкость и неприхотливость здешних сосен. Постепенно нам переправили с Хорсена вещмешки с нашими пожитками — мыльницами, бритвами и другими мелочами быта, без которых и на войне не проживешь. Появилась даже затрепанная книжка — «Зверобой» Фенимора Купера. У нее не хватало первых страниц, и начиналась она так: «— Я не траппер, Непоседа, — ответил юноша гордо. — Я добываю себе на жизнь карабином и владею им так, что не уступлю в этом ни одному мужчине моих лет между Гудзоном и рекой святого Лаврентия. Я никогда не продавал ни одной шкуры, в голове которой не было бы еще одной дыры, кроме созданных самой природой для зрения и дыхания». Хоть и благороден был товарищ Зверобой, а — хвастун. Зверя бил, видите ли, непременно выстрелом в голову.
Но это было потом — горячая пища, родная мыльница, «Зверобой». А в первые два-три дня я не находил себе места. Вдруг пришло в голову, что если мы не пойдем к «Тюленю» за мотоботом, то его уведут финны. После ночного обеда я сказал Литваку:
— Ты с главным больше не говорил? Ну, насчет мотобота.
— Дык ён сам знае. — Литвак мельком прошелся по мне взглядом. — Надо яшче спытать, — сказал он, почесывая под заросшим подбородком.
— Спытай, — повторил я понятное белорусское словцо. — Если мы не пойдем, то финны…
Он не дослушал, пошел проверять посты.
Ночь была прохладная, я мерз в своем бушлате, никак не мог уснуть. Я слышал плеск воды под веслами, тихие голоса на берегу у скал — это пришла шлюпка с Хорсена. Это Ушкало пришел — его прошлой ночью вызвал капитан в штаб отряда, и вот он вернулся.
Утром, когда мы завтракали сухарями, консервами и туманом, главстаршина Ушкало разжал твердые уста и сказал Литваку:
— Капитан дал добро на вылазку. Пойдешь сегодня ночью.
— От здорава! — Литвак улыбнулся, морща нос: его улыбка мне показалась хищной, не вяжущейся с обычно простодушным видом. — Шлюпка будзе?
— Будет тебе шлюпка. С кем пойдешь?
— С кем? — Литвак быстрыми желтыми глазами обвел нас, сидящих под большой скалой и занятых едой. — Вось, с Кузиным. Пойдзешь со мной за мотоботом? — обратился Литвак к рослому молчаливому парню в армейской форме, в ватнике, прожженном на правом боку. Тот кивнул. — Добра!
— Вдвоем не управитесь, — сказал Ушкало, — третьего надо.
— Разрешите мне пойти, — сказал я.
Ушкало, Безверхов и Литвак уставились на меня: мол, это еще кто голос подает?
— Я умею грести, — добавил я упавшим голосом.
— А яшче што ты умеешь? — насмешливо прищурил глаз Литвак.
Я отвернулся, чтоб они не видели моей вспыхнувшей физиономии.
— Ты, Земсков, сиди на телефоне, — услышал я глуховатый ушкаловский бас. — На телефоне сиди. Твое дело связь.
— Еремина, што ль, взять? — сказал Литвак. — Андрей, дашь мне хлопчыка?
— Лейтенант бы Ерему не отпустил, — сказал Безверхов. — Он Ерему жалел.
— Не гавары глупства! Жалел не жалел — што за размова? Война ж!
— Ладно. Только учти, Ефим: головой за Ерему отвечаешь. Ночью пришла шлюпка с Хорсена — доставила термосы с горячим обедом и анкерок с водой. Кроме того, прислали восемнадцать касок — по числу наших голов — со строгим приказом капитана носить не снимая.
Мы быстро разгрузили шлюпку. Потом в нее уселись трое: молчаливый Кузин в прожженном ватнике и Еремин, маленький улыбчивый краснофлотец, — на весла, Литвак — за руль. Весла бесшумно вспахали черную воду, и шлюпка ушла в ночь. Мы молча следили за ней, пока она не растворилась в темноте.
Литвак не сумел пробиться к мотоботу. Со Стурхольма взвилась ракета, финны увидели шлюпку на полпути к «Тюленю». И ночь взорвалась. Шлюпка вихляла среди всплесков огня. С Молнии оба наших пулемета били по мигающему пламени на черном берегу Стурхольма. Потом там рявкнул миномет, выплевывая в залив мину за миной, и Литваку пришлось повернуть обратно.
Шлюпка ткнулась носом в песок. Литвак и Еремин, тяжко дыша, вынесли на берег Кузина. Кузин хрипел, его жилистые руки молотобойца бессильно висели. Ваня Шунтиков как умел перебинтовал ему простреленную грудь. Я оцепенело смотрел, как сквозь бинт проступило расплывающееся черное пятно.
Т. Т. тихо проговорил у меня над ухом:
— Убили человека. А все из-за этого… желтоглазого…
Шлюпка ушла на Хорсен, увозя Кузина.
А наутро…
* * *
Когда нас, молодое пополнение, привезли на Ханко, мы попали на участок СНиС — Службы наблюдения и связи. Это береговая часть с наблюдательными постами, разбросанными по всему полуострову, с радиоцентром и телефонной станцией, — повторяю, береговая часть, но служба тут исчислялась по-корабельному, то есть пять лет, а не четыре. Мне это не нравилось. Я думал: уж если трубить все пять, то на кораблях. Мне плавать хотелось. Вместо морских походов я получил, в качестве новоявленного электрика-связиста, рытье траншей для телефонных кабелей.
Участок СНиСа находился в Ганге — курортном городке на оконечности полуострова — на проспекте Борисова. Этот коротенький широкий проспект, обсаженный липами, начинался у железнодорожного вокзала. Здесь стоял мрачный темно-красный дом, самый высокий в Ганге, в целых три этажа, — штаб базы. За ним простирался порт — причалы, краны, пакгаузы и просторная вода, серая с ртутным отливом. Рядом со штабом стоял белый одноэтажный домик, весь окруженный живой изгородью из сирени, — тут находилась наша телефонная станция. В конце мая сирень расцвела и наполнила все вокруг одуряющим благоуханием, совершенно неприличным для серьезной военно-морской базы. А напротив, на другой стороне проспекта, в двухэтажном доме помещалась наша казарма.
Дальше проспект вел к небольшой площади перед бывшей ратушей, которую теперь занимал Дом Флота. На площади цветочная клумба украшала братскую могилу, в которой были захоронены знаменитый летчик-истребитель Герой Советского Союза Борисов, погибший в конце зимней войны, и еще четверо — экипаж нашего бомбардировщика, сбитого тогда же над Ханко.