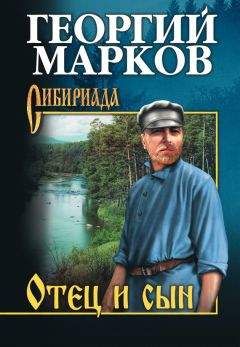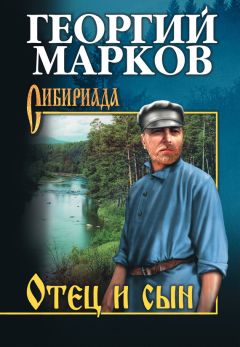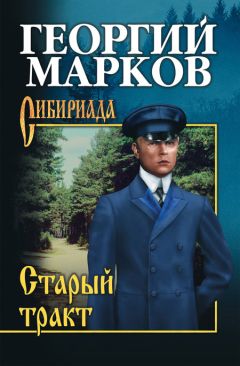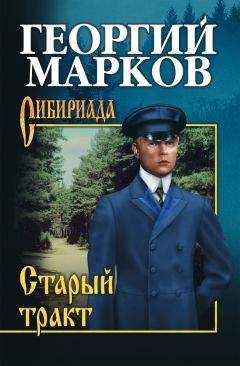Алешка между тем наелся и заскучал.
— Тятя, я на берег пойду, — сказал он, пользуясь паузой, наступившей в разговоре взрослых.
— Надюшка, проводи-ка кавалера на берег. Да смотри, чтоб собаки с цепей не сорвались! — возвысил голос Порфирий Игнатьевич.
— Собаки, деда, в хлеве сидят, — появляясь в двери, сказала Надюшка и обратилась к Алешке: — Ну, пойдем, мальчик.
— А как, Исаев, считаешь, рыбалка тут — доходное дело? — возвращаясь к прежнему разговору, спросил Бастрыков.
— Рыбы в здешних реках, товарищ чрезвычайный комиссар, видимо-невидимо, а только этот товар бросовый.
— Почему же бросовый?
— А кому тут ее продашь? Везти рыбу в Томск — тоже дело малодоходное. Одним словом, по пословице: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз.
— Какие снасти, Исаев, держишь?
— Невод держу, товарищ Бастрыков. Небольшой. Тридцать две сажени. Сетенки кое-какие: плавежные, становые. Ну, ботуху, конечно.
— А какую имеешь крючковую снасть?
— Тоже малость. Стяжек двадцать самоловов, столько же переметов. Ну, жерлицы, блесна, удочки баловства ради.
— На продажу рыбу ловишь?
— Ни в коем разе: бездоходное дело. В Каргасоке и Парабели своих рыбаков хоть отбавляй, а до Томска путь больно долгий. Для себя больше рыбачим.
— Хочу предупредить тебя, Исаев, не вздумай рыбачить на угодьях остяков! Губисполком обязал меня личной властью накладывать большой штраф на всяких нарушителей закона и даже конфисковывать все орудия лова. Понятно тебе?
Исаев даже позеленел. Он сильно привирал, когда говорил о невыгодности рыболовного дела на Васюгане. На самом деле каждое лето Порфирий Игнатьевич отправлял в Томск баржей в собственный магазин, скрытый под фамилией зятя, тысячу пудов первосортной соленой рыбы. Зимой к Рождеству и к началу Великого поста в Колпашево, в адрес томских перекупщиков, с Васюгана выходили обозы, по четырнадцать упряжек в каждом. В огромных коробах под брезентовым покрытием лежали отборные сорта рыбы: стерлядь, нельма, муксун, двух-трехаршинные налимы. Все это было поймано на «ямах» и «песках» остяков, их собственными руками. Привирал Исаев и насчет своих ловушек. В продолговатом амбаре у него хранилось двести стяжек самоловов, двести стяжек переметов и почти верстовой стрежневой невод. С артелью нанятых остяков он сам выезжал с неводом на обские плесы, захватывая, как коршун, налетая на лучшие угодья, разведанные и расчищенные остяками. Неужели всему этому приходил конец? Сраженный Порфирий Игнатьевич не знал, что сказать. А Бастрыков продолжал пригибать его к земле своими острыми и безжалостными словами:
— И еще, Исаев, вот что: если твой скот пасется на лугах, которые числятся за остяками, перегони на свои пастбища, а не перегонишь — пеняй на себя. Конфискую. И не вздумай врать. Карта земель у меня на руках.
Порфирий Игнатьевич опустил голову. С трудом поднимая ее, глядя мимо Бастрыкова, с напускной бодростью сказал:
— Все будет исполнено, как приказывает наша власть рабочих и крестьян.
Когда вышли на берег, Надюшка, щурясь от солнца и шмыгая носом, спросила:
— А тебя как зовут?
— Алешка.
— А меня Надюшка.
— Знаю. Слышал, как тебя дед твой называл. Он у тебя какой?
— Дед-то?
— Он у тебя кулак. А кулаки — все живодеры и хапуги.
— А куда ж мне деваться? Тятьки нет, мамки нет. Сиротиночка я. А у тебя мамушка есть?
— Белые ее убили. Тогда еще революция была. Тятя мой командиром у партизан был. Они в отместку ему взяли маму, закрыли в нашей избе и подожгли.
— Ой, страхи какие!
— Ну, тятя показал им! Все их отряды в пух и прах разбил!
— А я его не боюсь! Нисколечко!
— А чего же его бояться?! — тоненько засмеялся Алешка. — Он добрый. Он меня ни разу пальцем не тронул. А дедка твой злой, он дерется?
— Дедка лучше, а вот матушка Устиньюшка не приведи господь какая злюка! Так другой раз исщиплет, что живого места нет.
— Ну я бы ей засветил, подлюге! Вовек не забыла бы!
— Ты мальчишка, тебе можно.
— Коммунар я. Никого и ничего не боюсь.
— И Бога не боишься?
— А чего его бояться? Богомольные бабки все это выдумали.
Смелость суждений Алешки словно приковала к земле Надюшку. Она смотрела на мальчика, широко раскрыв глаза, боясь сдвинуться с места, и то восторг, то испуг плескались в ее взгляде.
— Какой ты отчаянный! — воскликнула Надюшка.
— А у нас в коммуне все отчаянные! «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».
Алешка произнес эти слова громко, отчетливо, взмахами руки как бы утверждая особую силу этих слов. Девочке передалась его энергия, и она с придыханием сказала:
— Очень хороший стишок!
— Чудачка! Это не стишок, а песня коммунаров всего мира. «Ин-тер-на-ционал» называется.
Они помолчали, не зная, о чем можно говорить вот так сразу, после того как прозвучали необыкновенные и покоряющие слова.
— Ты читать умеешь? — спросил наконец Алешка.
— Немножко умею. По печатному лучше. По писаному хуже.
— В следующий раз я привезу тебе эту песню. Перепишу печатными буквами. Ладно?
— Привези! Я мигом выучу. Я памятливая!
— Давай дружить! Ладно?
— Давай!
Надюшка схватила мальчика за руку, и они побежали, приплясывая и подпрыгивая, по крутому, местами осыпающемуся и нависшему над рекой берегу.
Девочка показала Алешке яр, изрытый круглыми дырами. Здесь, в углублениях, стрижи выводили своих птенцов. Потом Надюшка повела Алешку в огород. Тут под черемуховым кустом у девочки был сделан из тальниковых прутьев игрушечный домик. Алешка не без труда, сгибаясь в три погибели, пролез в дыру, завешенную, как у правдашней двери, цветастой тряпкой.
Домик очень понравился Алешке. В нем было уютно, сумрачно и прохладно. На кроватях из щепок безмятежно спали тряпичные куклы. На столе из неоструганной доски на месте самовара стоял старый, весь в сквозных дырках эмалированный чайник, чашки заменяли осколки разбитой тарелки.
— А я еще лучше дом сделаю. Налеплю кирпичей, обожгу их на костре и сложу. Большой дом! Чтобы целая коммуна могла жить! — покидая игрушечный домик, сказал Алешка.
Из огорода ребятишки направились во двор. Надюшка решила поразить Алешку новыми потайными диковинками, о которых не знал даже дед Порфирий.
В амбаре над стропилами, в уголке, свила себе гнездо белочка летяга. Белочка была осторожной и чуткой. Надюшка выследила ее единственный раз в раннее утро, пролежав в сусеке с зерном часа два в полной неподвижности. Белочка, распрямив свои перепонки, пролетела через весь амбар, схватила из короба кедровую шишку с невыпущенными орехами и так же быстро вернулась в свой уголок над стропилами.
Надюшка рассказывала, а Алешка только смотрел. Но смотрел он не на гнездо белки летяги, а на хозяйское добро, которым был забит амбар от пола и до крыши. Многое приметил цепкий Алешкин глаз… Окорока, висевшие на железных крючках, десятки хомутов с наборными шлеями и уздами на длинных кляпах, вбитых в бревенчатые стены, полные сусеки зерна, вороха неводной и сетевой дели, мотки бечевы и проволоки, бочки с варом, два круглых жернова. Но больше всего потрясло Алешку то, что увидел за дверью, на обычном четвертом гвозде. Он вгляделся в это и раз и два, чтобы ненароком не ошибиться.
— Теперь пойдем, Алешка, в сарай. Я покажу тебе гнезда ласточек касаток, — сказала Надюшка.
Алешка кинул последний взгляд на амбарную дверь. Нет, ошибки не было!
Надюшка не успела ладом показать Алешке ласточкины гнезда. На крыльцо вышли мужики. Они шумно разговаривали, топали сапогами по ступенькам. Надюшка испуганно схватила Алешку за руку.
— Пойдем скорее в огород, чтобы дедка нас здесь не приметил. Не велит он сюда чужих водить.
Алешка в первое мгновение тоже испугался, но потом вспомнил, что он коммунар, и у него мелькнуло желание идти через двор без всякой опаски. Однако Надюшка тянула его за руку, и он покорился. Они с разбегу перемахнули через забор в огород, пробежали между грядок и вышли в калитку на тропку, по которой ходили к реке за водой. Когда мужики показались в воротах, Надюшка с Алешкой прыгали на круче возле лестницы как ни в чем не бывало.
— Смотри, товарищ Бастрыков, как парень-то твой пришелся моей сиротке по нраву! Как бы нам еще не породниться! — расплылся в довольном смешке Порфирий Игнатьевич.
— Ну, загадывать не будем. До той поры, как им жениться, много воды утечет в Васюгане, — без улыбки, серьезно ответил Бастрыков.
Алешке сейчас же хотелось шепнуть насчет амбара, но Исаев ни на шаг не отставал от Бастрыкова. Он провожал председателя коммуны до самой лодки. Только теперь, когда лодка оказалась на середине реки, Алешка решил, что его томлению наступил конец. Исаев хотя и стоял все еще на берегу, но расслышать Алешкиных слов уже не смог бы.