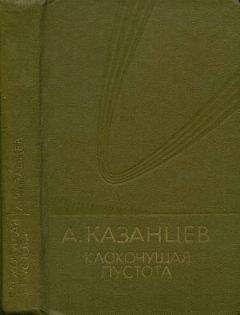Хлопоты о пропуске из города занимают около трех суток. Самая процедура получения бумажки — не больше двух минут, всё остальное — стояние в очереди, тянущейся на несколько кварталов.
На пристани в Панчево, на телеграфных столбах и заборах расклеены небольшого формата объявления, напечатанные на красной бумаге. С ужаснейшими ошибками в языке написано всего несколько строк:
«Сегодня в ночь на 26 апреля расстреляно 100 сербов за нападение неизвестных злоумышленников на немецкого солдата. Предупреждаю, что в случае повторения подобных выпадов цифра расстреливаемых будет увеличена. Комендант».
Позднее расстрелы заложников, также сотнями, начались и в Белграде.
Атмосфера страха, психологического надлома в массах достигается не только бесчеловечной, но, еще того больше, бессмысленной жестокостью. Немцы владели этой техникой в совершенстве. Наряду с арестами и расстрелами сотен и тысяч они тяжелым прессом ломали психологию масс, миллионов, всего народа. Теми же методами и по тому же принципу: чем бессмысленнее, чем непонятнее, тем больший эффект.
В Белграде в пять часов после обеда, когда еще высоко знойное балканское солнце, запрещено выходить на улицу. Там царит мертвая тишина и абсолютное безлюдье. Весь город сидит у окон.
Понять эту меру невозможно.
Если это в целях безопасности оккупационных властей, то почему же население в пять часов опаснее, чем в четыре, когда так же светло и так же палит солнце.
С наступлением темноты в городе начинается стрельба, целую ночь гремят отдельные выстрелы и длинные очереди автоматов. Это немецкие патрули бьют по всему живому, что мелькнет на пустынных улицах.
Каждое утро жители находят пять-шесть плавающих в крови трупов. Чаще всего бывает это в районах, населенных рабочей беднотой.
В запрещении появляться на улицу есть что-то издевательское, оскорбительное. Как будто бы взрослого человека посадили на стул, приказали не сходить, а для верности еще привязали тоненькой ниткой.
Женщина, перебегавшая через улицу к соседке, мужчина, пытавшийся проскользнуть из калитки в калитку к соседу за огоньком для папиросы или просто поделиться новостями, собака, по недосмотру хозяев выбежавшая на улицу, — всё это падает мертвым под пулями патрулей.
В эмигрантском русском мирке большая тревога: начались аресты и среди русских. Аресты, гнетущие своей непонятностью, а может быть, являющиеся исполнением какого-то большого неизвестного гам плана. От этого становится еще тревожнее. По какому признаку берут, кого и за что — понять невозможно. Берут людей, всегда далеко стоявших от всякой политики, берут людей, известных раньше, как германофилов, берут людей без всяких признаков вообще.
Берут партиями. Держат неделю-две и кого-то без допроса выпускают, а кто-то остается сидеть. Берут других. Кого-то уже увезли в Германию, говорят — в концентрационный лагерь. Этих оплакивают, как навсегда потерянных. Среди увезенных мой большой друг, молодой талантливейший журналист, корреспондент французского агентства «Гавас».
Много арестованных в кругах русской профессуры университета, арестованы известные адвокаты, врачи, видные общественные [деятели. Но есть среди арестованных и шоферы такси, и мелкие (торговцы, и чиновники.
Я жду своей очереди со дня на день. Кажется невероятным, (чтобы меня, редактора одной из двух выходящих в Белграде русских газет, не захватила эта волна. Газета наша, русская, эмигрантская, непримиримо и активно антикоммунистическая. Все ее интересы сосредоточены на происходящем в Советском Союзе, а на международной политике лишь постольку, поскольку тот или иной IKT имел отношение к внутреннему положению нашей страны правда, до войны газета была запрещена в Германии и прекратила свое существование в день разгрома Белграда. Ждать приходится недолго.
Рано утром — стук в дверь. Я открываю, нисколько не сомневаясь в причинах столь раннего визита.
У дверей двое: человек в штатском и другой в форме. Штатский спрашивает на не совсем чистом русском языке:
— Вы такой-то?
— Да, это я.
— Идите с нами.
Спускаемся по лестнице. Впереди человек в штатском, за ним я, мной — в форме. В голове проносятся мысли, одна нелогичнее и невыполнимее другой: что если броситься сейчас бежать вниз по лестнице? Пока начнут стрелять, я буду уже за поворотом… Ах, об этом нужно было думать раньше. Нужно было уехать куда-нибудь в провинцию, переменить имя или, хотя бы, ночевать у знакомых… А может быть, это и не арест. При аресте всегда делают обыск, а у меня не делали.
Выходим на улицу. Штатский цедит сквозь зубы:
— В помещение редакции.
В таком же порядке, как по лестнице, шагаем туда.
В редакции прошли по комнатам. Они время от времени перебрасываются на непонятном мне немецком языке короткими фразами. Я хожу за ними и думаю: здесь они не найдут ничего. Помещение редакции тщательно и давно, еще до занятия города, приготовлено к этому визиту.
Наконец вышли. Запечатали выходные двери квадратиками с орлом и свастикой. Ключи взяли с собой.
На улице штатский, глядя куда-то в сторону, прогнусавил:
— Идите за мной.
Идем. Идем по тому же пути, как шли и сюда от дома. На улице короля Александра поворачиваем круто направо. В конце квартала желтое здание бывшего суда — сейчас переполненная до отказа тюрьма.
Во двор. Направо. По стертым каменным ступеням поднимаемся в коридор, переполненный какими-то женщинами с узлами — не то просительницами, не то принесшими передачу арестованным мужьям и братьям. Мы входим в небольшую комнату с деревянными скамейками по стенам. За столом сидит пожилой немец в форме и, склонив голову набок, что-то пишет в толстый журнал. Мой штатский спутник подходит к нему (военный остался уже в коридоре) и, показав на меня кивком головы, роняет несколько слов. И затем в полоборота ко мне:
— Садитесь и ждите.
Я сажусь и жду. Жду час, жду два. Приближается обеденный перерыв. Через нашу комнату проходят какие-то военные с туго набитыми портфелями подмышкой. Громко между собой разговаривают, смеются. На меня не то что не обращают внимания, а просто смотрят, как через пустое место. Скоро сидящего за столом сменяет вертлявый маленький фольксдойчер — я слышал, как он, выйдя в коридор, на кого-то кричал по-сербски.
Проходит еще часа два. Возвращаются с обеда. Опять проходят мимо. Я обращаюсь к сидящему за столом и спрашиваю — не может ли он мне сказать, что значит мое сиденье? Арестован ли я? Жду ли кого-нибудь, и если да, то кого? Он смотрит на меня без тени какого бы то ни было выражения и, ни слова не проронив, отворачивается к окну.
Под вечер постепенно, словно мягкими лапами, тело и сознание берет какое-то отупение. Кажется, что сижу я здесь уже целую вечность, кажется невероятным, что еще сегодня утром я был дома, а вчера ходил по улицам. В детстве бывало так: проснувшись от послеобеденного сна, никак не можешь вспомнить, что было сегодня утром, а что — вчера.
Наконец, начинают расходиться люди с портфелями, — по-видимому, кончается рабочий день. Вертлявого фольксдойчера сменил опять сидевший утром. Он снимает пояс с револьвером, кладет его на окно, садится за стол и, откинув голову, глядя в маленькое окно, громко зевает… — одним словом, ведет себя так, как ведет себя человек, когда остается один в комнате.
Глядя на него, я думаю: можно ли совсем искренне и настолько презирать человека, чтобы не замечать его присутствия в этой комнате, или для этого нужно немного притворяться, играть? Впрочем, едва ли он играет — слишком много чести было бы для меня, а других зрителей здесь нет. Где-то в самой глубине души я чувствую холодок страха: какая же пропасть между его миром, его отношением к человеку и тем, в котором жил и который считаю своим я.
Наконец появляется мой утренний спутник. Так же, как утром, глядя в сторону, гнусавит:
— Вы пока свободны. Не отлучайтесь из города. Если уходите из дома, всегда оставляйте адрес, где вы. Можете идти.
Все та же непонятная чертовщина. Бели нельзя никуда отлучаться, то почему тогда просто не задержали? Но во всяком случае, какое наслаждение идти по улице одному, самому выбирать дорогу и, если захочется, часами стоять где-нибудь на углу и рассматривать прохожих. Впрочем, часами стоять нельзя. Остается пять минут до полицейского часа, после которого без риска быть пристреленным на улице появляться немыслимо. По тротуарам торопливо шагают люди, кое-где уже бегут. Ускоряю шаги и я.
Жизнь потянулась нудная и беспросветная. Для людей интеллектуального труда и так называемых свободных профессий — музыкантов, журналистов, артистов — помимо того, и голодная. Ни театра, ни музыки, ни газет нет, да, кажется, никогда и не будет в сожженном, похожем на кладбище городе. Мы, пролетарии-интеллигенты, всегда жившие, как самая беззаботная богема, конечно, никогда не имели и не имеем никаких запасов и сбережений. Проживали ровно столько, сколько зарабатывали, и даже чуточку больше. Эту чуточку отплачивали потом неожиданно подвернувшимся заработком на стороне, у одного это было непредвиденное участие в каком-то концерте, у другого — гонорар, неожиданно полученный за забытую и не входящую в расчеты статью. Через неделю-две в городе начинают как-то обозначаться первые робкие побеги нормальной жизни. Кое-что уже можно достать из продуктов питания, не купить еще, а достать. Кое-где можно что-то выменять, главным образом у крестьян, неуверенно и робко появляющихся на окраинных улицах. Но чтобы выменять, нужны вещи; чтоб купить, нужны деньги, и не наши старые, полновесные динары, которыми можно было за любое количество любого продукта платить однозначную цифру, а какие-то непривычные для слуха, астрономические формулы. У нас нет ни формул, ни вещей для обмена. Одним словом, нужно работать, зарабатывать для того, чтобы есть.