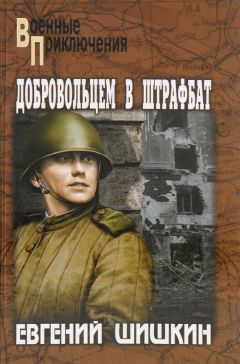«Первенца-то бы, ежели парень, надо Лешкой назвать. В память о товарище. Второго — Захаром бы можно. Он тоже кровным другом был. Я бы тебе, Оленька, про них рассказал. Что за мужики это были. И про Семена Волохова бы рассказал. Много бы чего нарассказывал, если б домой-то мне человеком вернуться. Теперь вышло ни жив ни мертв. Посередке я где-то… — Федор вздыхал. — Оглянешься назад-то, и выходит вся жизнь моя как-то посередке оказалась. Меж любовью и ревностью кидало. Меж красным флагом и церковным крестом. Теперь между жизнью и смертью остался. На середке-то всегда шторм сильнее. Вот и тяжко мне нынче… Хоть и люди кругом, хоть и войны нету, а я все один как перст. Только ты у меня, моя милая».
Созданная Федоровым воображением Ольга всегда оставалась понятливой, покорной всему и согласной с его даже путанными думами. Она стала частью его самого, частью его участи. Но земной Ольги, которая ждала его в Раменском, Федор боялся. Гнал ее от себя.
Когда отступали утешные выдумки и жестоко являлось истинное положение, Федор кричал через сотни километров — настоящей Ольге:
«Не мучь меня! И себя не мучь! Уходи! Не бывать тебе с уродом. Жизнь твою губить не возьмусь. Чего теперь от меня? Никакой жалости не хватит, чтоб меня принять и терпеть! Уходи! Забудь навсегда! Не рви ты мне душу, Ольга! И себе не рви. Не бывать у нас с тобой жизни. Счастья тебе желаю, а меня оставляй…»
Он неколебимо знал, что к живой Ольге нету ему возврата. Напоминая себе о своем уродстве, он видел Ольгу в дразнящей, недоступной красе. Молодая, с крепким телом, с высокой грудью; черноокая, со свежими губами и гладкими щечками, влекущими мужиковские взгляды, — будет Ольга принадлежать другому! Другой будет обнимать, целовать ее, под себя укладывать в постель и нежить… А ему, Федору, обрубку, получеловеку, достанется изгрызть себя ревностью. От этой злой ведьмы ревности, которая вечно пасется за любовью, он уже настрадался. Теперь ему лучше, и вернее и должно, ни о чем этаком не знать, не видеть — Ольгу не встречать, о ней не думать!
Сердце бухало от досады. Что ж такое-то? Живой ведь, живой! А не живать с ней! И без нее не прожить… Да хоть бы тогда, в прежнее время, добиться Ольги, воспользоваться бы случаем на вырубке, «огулять» бы, как Дарья советовала. Может, терпеть бы сейчас было б легче. Легче, бесова душа!
Иногда в кутерьме воспоминаний мелькал лагерный доктор Сухинин. Федору не забылись его складные речи про вред красоты, про любовь с разрушительной в себе силой. «Человек живет с извечной потребностью любви, но возможности для нее чаще не имеет, чем имеет. Такое противоречие, молодой человек, и есть разрушение личности. Личность без любви всегда вольнее, шире. Для нее простор. Любовь весь мир вокруг себя, как вокруг болячки, замыкает…» Федор сомнительно хмыкнул. Финтил, конечно, немного Сергей Иванович. В лагере все финтят, свой шкурный интерес блюдут: кто в делах, кто в словах. Про него кривой Матвей говаривал: «За что боролся, на то напоролся. Он человек чувственный. Оправдание всякому своему действию ищет. Нагрешит на копейку, а повинится на рубль».
Однако воспоминания о докторе Сухинине служили лишь для настроя. За ними Федору открывалась другая правда. Ведь не будь Ольги, не существуй ее вообще, он бы в Раменское даже таким калекой стремился. К матери. Мать есть мать. Перед ней не стыдно. Любым примет. Во всякое время укроет. «Что ж поделаешь, мама? Вот, воевал. Встречай, каким остался». Да ведь Ольгу-то никуда не денешь! И душой от нее нигде не схоронишься! Лучше б и не было у него никогда этой Ольги! Не знать бы никакой любви! Ему теперь не только любить в полную волю, но и кулаки сжать от обиды возможности не осталось!
Он опять глядел на себя поверх одеяла — с диким изумлением, ошарашенно. Там, где должны быть руки, — коротко, и там, где ноги, — коротко. Федор сжимался всем пообсеченным телом и неслышно плакал.
Через несколько дней скончался мичман Ежов. Он не стонал, не метался в агонии по койке. Ушел тихо и безропотно. Смирясь… Столь же тихо и безропотно покинул мир изувеченный блатарь Ляма зимней ночью в лагерном карцере, когда он лежал спиной к спине Федора. И тогда, и теперь Федор почувствовал присутствие смерти. Он не видел со своей кровати лицо Ежова, но сразу, задолго до того, как это обнаружилось медсестрой, догадался об исходе мичмана. В атмосфере палаты что-то перестало быть — видать, меньше стало живого.
В морг умершего выносили из палаты выздоравливающие фронтовики.
— Не тяжел покойник-то.
— Откуда в нем весу быть? Есть не мог. Иссох.
— Отстрадал бедняга.
— На все воля Божья.
— На том-то свете ему, гладишь, лучше будет. Прости, Господи…
Наблюдая, как покойного поволокли на носилках, Федор печально наткнулся на свою мимолетную лагерную думу: жизнь кому-то не в радость, а в наказание дается…
В своих бесконечных госпитальных мыслях Федор не раз подбирался к Богу. Думать об этом было тяжело. Что-то всегда ускользало, не складывалось, путалось. Но и без таких мыслей он уже не мог обходиться. Может, в этом правда-то? Отстрадать тут, на земле? Чтоб в тот мир прийти уже в чистоте да безгрешии? Только вот незадача: хоть и крещен он сызмальства, и никогда ярым безбожникам не поддавался — на крест Раменской церкви с почтением взирал, — но с истинной-то верой припозднился. На колени пред иконой теперь не стать — нету коленей. И рук нет, чтобы перекреститься…
Федор мрачнел лицом, мрачнел душою. В этой мрачности опять свербели строптивые, мстительно-ядовитые чувства. Не зря он в вере-то сомневался. Слабосилен Бог, безволен, прихотлив, ежели так распоряжается своими рабами земными! За что Таньку сгубил, сестренку непорочную, благочестивую? Праведного Захара от детей отнял? Крестьянина Кузьму в огне заживо спалил? Да сколько их еще встретилось, к которым не придраться, грехом не попрекнуть! Нет в деяниях Божьих справедливости и порядка! Вон война — разве не подтверждение? Целые поля мертвых — хуже мора… Где? В чем тут правда?! Дьявол на земле больше хозяин, чем Господь Бог!
Федор щурил глаза, сжимал зубы. Доходил в своей ярости до полного отрицания. Нет никакого Бога на земле! Все это выдумки. Чушь собачья! Нет его на земле — значит, нет и на небе. И жизнь человечья что жизнь мухи. Как горбатый Фып говорил. А какая жизнь у мухи? Коротка, бестолкова. Нет у нее никакого смысла, и не может быть к ней жалости!
Проходило время — гнев притуплялся. Федор пугался своих богохульных мыслей. Да как же он может судить про все, если смотрит на мир глазами человечьими! Бог-то Божьими глазами на все смотрит. Чего ему, Федору, не постичь разумом, Богу постижимо. И что человеку угодно, Богу-то, может, осудительно… Федор уже казнился за прежние оскорбительные помыслы. Однако в земной Божьей несправедливости оставался несгибаем. Нету ее — справедливости! Нет, бесова душа!
«Отстрадал… На том-то свете… лучше ему. Лучше будет… На том-то свете…» — как на патефонной пластинке, когда игла ползет по одному и тому же кругу, долго слышались Федору слова фронтовиков, выносивших Ежова.
О загробном мире Федору думалось легко, даже отдохновенно и мило. Если здесь, в земном существовании, он прекословил и не доверял Божьей власти, то в загробную справедливость верил со смиренной покорностью. Неземного Бога он принимал насквозь, без колебаний. Ему отдавался целиком, проникаясь тихой отрадной надеждой. Умиротворение и благодушие нисходило на Федора, когда опутывали думы о тамошней жизни.
Там, только там, когда истечет его здешний срок и он сойдет с грешной земли на иное пребывание, у него будет радость встреч, не сбывшихся тут. Там он увидится с отцом, скажет ему, открыто глядя в глаза: «Прости меня, батя», — и они обнимутся с ним; отец примирительно, рудно кольнет своими усами его щеку, и уж не быть больше между ними разлада и пререкания. Там он встретится с Танькой. Поди, и не узнать — вымахала! Танька блеснет преданными глазами, кинется ему на шею. И он прижмет ее к себе, худенькую, легкую, всю самую родную. «Эх, Танюшка, не сберег я твой крестик Начальник конвоя из руки вышиб. Только ты не жалей. Крестик-то мне жизнь спас. Поробел Воронин пулю пускать. Перед крестиком-то замешкался. Ты мне другой подари. Теперь уж навечный». Там он неизменно повидается с дедом Андреем. Будет им о чем потолковать да и помолчать о многом. Дед Андрей без слов все слышит и понимает, да и он уже не птенцом к нему прилетит. Ждет его там свидание с дружками — с Паней, с которым горячили вечерки, с Лешкой Кротовым, с кем ловко своевали против немецкого «тигра», с земелей Захаром… Много будет и других встреч — с кем сводила земная судьба. Всех разом-то и не упомнишь…
Там, именно там, у Федора будет самолучшая возможность выучиться молитвам. Бабушка Анна ему в этом поможет. Он им обязательно выучится! Будет просить осиянного Бога, чтобы дольше туда не являлись оставшиеся здесь, на земле. Но он в то же время будет их ждать: люди-то смертны! Ждать терпеливо, разумно, молитвою отдалять их приход к нему. И настанет час, когда придут туда остальные. Семен Волохов, который не будет там фордыбачить, а примет все с добротою. (Может, уже там Семен-то?) Придет и спаситель Вася Ломов, придет «ваккуратно» (Федор не знал, что среди живых его уже нет).