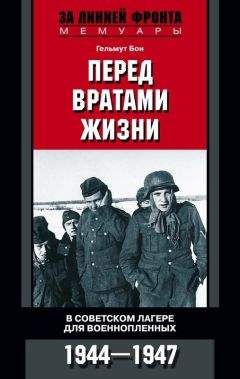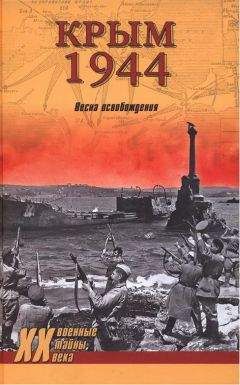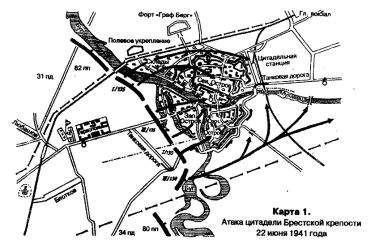Я вытягиваю обе руки, пытаясь найти опору в толпе. Чувствую, что мои руки ухватились за чью-то шею.
Красноармеец, за шею которого я ухватился мертвой хваткой, боится, что упадет в воду вместе со мной. Он изо всех сил врезается в толпу и таким образом спасает нас обоих от купания в ледяной воде.
Слепая старушка, которую плачущая внучка должна доставить в Осташков, падает от сильного толчка на доски причала.
Двум пленным и красноармейцу приходиться ее спасать.
Все ведут себя как охваченные яростью фурии. Просто чудо, что никто не падает в воду.
Оказавшись на пароходе, мы теснимся у дымовой трубы. Но от сажи и копоти почти невозможно дышать.
Быстро темнеет, и наступает ночь. Ледяной ветер продувает всех насквозь. Ведь уже начало ноября.
На каждой остановке повторяется одна и та же картина: те, кому надо сойти, не могут добраться до трапа, а те, кому надо попасть на пароход, дерутся на пристани. И каждый из них еще тащит за собой огромный мешок, а то и несколько!
В десять часов вечера пароход прочно садится на мель.
Целый час капитан, одетый в ватник и в морской фуражке на голове, маневрирует взад и вперед. Наконец ему удается снять пароход с мели. Пришвартовавшись к следующему причалу, капитан объявляет, что, пока не рассветет, пароход дальше не пойдет. Становится все холоднее и холоднее, а нас ко всему прочему донимают еще и вши.
Каждый ищет себе пристанище где только можно.
Вместе с несколькими пленными я устраиваюсь на ночлег в детском саду.
Сначала в прихожей.
Потом в коридоре.
Когда в коридоре собирается еще больше людей, мы открываем какую-то дверь. В комнате за дверью горит свет.
Там кто-то спит на железных кроватях с никелированными спинками. Здесь тепло, царят уют и покой.
На столе стоят цветы. На полке теснятся книги.
На стенах детские рисунки и снежинки, вырезанные из бумаги. На окнах пестрые занавески.
Это комната нянечек и воспитателей.
Конечно, мы поступаем неправильно, присаживаясь на край кровати в своих завшивевших и грязных после уборки картошки брюках.
Сначала мы сидим только на краю кровати.
Когда я пытаюсь поудобнее устроиться на кровати, в которой сладко посапывает юное создание, из-под одеяла высовывается голая нога, и я получаю приличный пинок в зад.
Но я воспринимаю это не как протест. Когда девушка повернулась ко мне лицом и открыла глаза, то лишь спросила:
— Который час?
Где еще в мире встретишь столько уравновешенности и хладнокровия! (Только в России. — Ред.)
Когда я возвратился в лагерь, выяснилось, что этой же ночью скончался Малыш.
Я не могу поверить, что кто-то может умереть, не переболев прежде дистрофией. Как такое может случиться?
Разве всего лишь восемь дней тому назад, когда я уезжал в колхоз, он не отпускал свои обычные шуточки!
Что он сказал мне тогда?
— Существует три вида людей: святые, идиоты и коварные бестии!
— Ах вот как? — посмеялся я над ним. — И к какому же виду отношусь я?
Малыш немного помедлил с ответом, с удовольствием попыхивая трубкой. Когда он сам заметил, что его классификация была не совсем «кстати», то, улыбнувшись, сказал:
— Ну, к идиотам ты уж точно не относишься! Но ты далеко и не святой!
Потом, неожиданно повернувшись, он ушел.
— Большое спасибо! — крикнул я ему вслед, так как, согласно его классификации, он отнес меня к коварным бестиям.
Вот на этой шутливой ноте и закончился наш последний разговор, и он ушел!
Можно увидеть тысячи смертей и сохранить самообладание. Но вот умирает кто-то близкий тебе по духу — пусть он даже и не сверхчеловек — и ты снова с болью осознаешь весь ужас смерти.
Как мне рассказали, Малыш внезапно заболел дифтерией. Но не нашлось ни одного конвоира, который мог бы отвести его в госпиталь. Когда он туда поступил, его уже было невозможно спасти.
Я осматриваю его вещи. В его дневнике я нахожу любопытную запись следующего содержания: «Я хотел бы знать истинные политические взгляды Бона». Я тотчас сжигаю этот листок дневника. Его бумажник я забираю себе.
Должен ли был я разыскать его могилу? Разумеется, такая мысль даже не приходит мне в голову. Ведь это же плен. Тут можешь очень мало что сделать для живых, не говоря уже о мертвых. Проходит некоторое время, и я вдруг замечаю, что часто употребляю одно из любимых выражений Малыша. «Возможно, это кстати!» — всегда говорил он, когда что-то завершалось очень хорошо.
Впредь я стал говорить так намеренно:
— Возможно, это кстати!
До 7 ноября, двадцать восьмой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, нашему антифашистскому активу предстояло многое сделать.
Нашему городскому лагерю и его отделению на кожевенном заводе не нужно было готовиться к самим торжествам.
Оба подразделения городского лагеря должны были отправиться маршем в лесной лагерь, чтобы провести там главный праздник большевистской России, подальше от шума пьянствующего, стреляющего и бесчинствующего города.
В лесном лагере антифашистский актив должен был как следует потрудиться, чтобы украсить территорию и бараки: свить гирлянды и написать алые транспаранты «Да здравствует 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!».
В этом отношении нам с Гансом повезло больше.
Нам нужно было позаботиться только о почтовых открытках, которые военнопленные, наконец, впервые могли написать домой.
Еще в июле мы получили от политотдела указание собрать письма военнопленных.
— Но у нас нет бумаги! — заявили мы тогда офицеру-политработнику, Старому Фрицу.
— Ничего страшного! — ответил тот.
И мы посчитали это негласным разрешением украсть бумагу в любом месте, где это только было возможно.
Когда мы заметили, что у нас нет конвертов, то нам в голову пришла мысль складывать конверты в треугольник так, как это делали русские, чтобы он держался без клея.
— Разумеется, все письма будут подвергнуты цензуре! — сообщил я военнопленным.
И вот все сидели и ломали себе голову над тем, как сделать так, чтобы их близкие обрадовались весточке и в то же время поняли бы, что значит быть военнопленным в России.
Когда мы собрали все письма, то от Ларсена узнали, что наши письма не могут быть отосланы. Ганс и я взяли эту неприятную миссию на себя и однажды ночью сожгли всю почту.
Все эти тысячи приветов и поцелуев, эти заверения в вечной верности, выражения страстной тоски в течение десяти минут улетели вместе с дымом через трубу печки в комнате дома номер 40 на Евстафьевской улице.
Что нам оставалось делать, Гансу и мне?
Или мы должны были сказать нашим товарищам: «Вероятно, политотдел разрешил вам написать письма только потому, что таким способом собирался выяснить, не утаили ли вы что-то во время заполнения анкеты с личными данными?»
Мы сами ничего не знали, когда в течение нескольких дней и ночей надписывали на треугольниках по-русски и по-немецки сотни адресов.
Кроме того, мы преподнесли разрешенную наконец переписку между лагерями военнопленных и родиной как колоссальный успех антифашистского актива в его работе по улучшению условий содержания пленных.
Нет, мы поступили тогда правильно: сожгли письма, а не передали их во второй отдел, так как в них содержалось слишком много личного, сокровенного, не предназначенного для посторонних глаз. И мы никому не сказали о своем поступке! Но сейчас, шесть месяцев спустя после окончания войны, к нам поступили настоящие почтовые карточки. С официальным штампом. С изображением Красного Креста.
Ах да, ведь где-то существует Международный Красный Крест, который заботится о военнопленных.
Среди военнопленных царило такое радостное настроение, какое бывает только на Рождество. Скоро дома узнают, что мы живы и не погибли!
Я пошел в лесной лагерь один, не дожидаясь остальных, и пошел так, как мы в активе привыкли это делать: сначала мы всегда заходили к Ларсенам. И сегодня я вошел в серую, мрачную многоэтажку, в то время как длинная запыленная колонна пленных отправилась на четыре дня в лесной лагерь, чтобы переждать там празднование Октябрьской революции.
— Присаживайтесь! — сказала мне фрау Ларсен.
Она тщательно прикрыла дверь, так как уже наступила настоящая зима, к тому же здесь соседи охотно подслушивали друг друга, ведь в этом доме проживали сотрудники НКВД.
— Вы хотите попасть в антифашистскую школу? Тогда через четыре месяца вы будете уже дома! Я это точно знаю.
Я уже успел присесть на краешек стула, но тотчас вскочил. Это было именно то мгновение, которое я упорно готовил в течение долгих месяцев.
Какого же самоотречения стоило это мне!