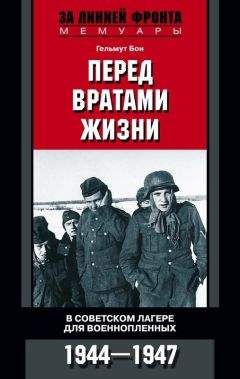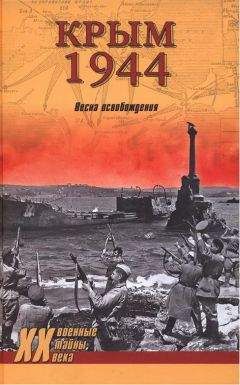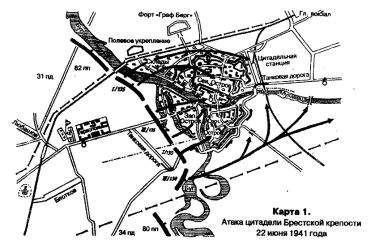Запишут ли они, наконец, правильно проценты на выдачу хлеба бригаде, которая работает на строительстве нового корпуса больницы?
Восемь дней тому назад в этом доме пьяный перерезал бритвой горло своей жене и четверым детям.
Мы переходим через железнодорожную насыпь в том месте, где на одном из рельсов видны три переплетенных между собой кольца и написано по-немецки слово «Крупп». Этот рельс из того же самого города, что и я, всегда думал я, когда проходил мимо.
И этот рельс я тоже никогда не забуду.
В лесном лагере они лучше знали, как обстоят дела.
— Конечно, вас повезут в антифашистскую школу! — говорит фрау Ларсен, когда мы с ней остаемся наедине. — Правда, вы поедете не в Москву, а в город Вязники. Он находится примерно в трехстах километрах за Москвой. Мой муж написал мне из Москвы, что будет работать в этой школе преподавателем.
Ларсен будет преподавать в школе в Вязниках?
Разве может теперь со мной что-то случиться!
— Вы должны кое-что пообещать мне, — говорит фрау Ларсен, — дайте мне слово, что предостережете моего мужа, если у вас возникнет чувство, что над его головой собираются тучи. Мой муж часто бывает так неосторожен в своих высказываниях!
После этого Мартин, Курт и я помогаем ей проверять письма. У фрау Ларсен на столе лежат сотни карточек Международного Красного Креста для отправки в Германию, которые она должна проверить.
— Если возникнут какие-нибудь сомнения, спрашивайте лучше меня! — говорит она.
Мы не торопимся, удобно расположившись в ее кабинете, в рабочей комнате политинструктора лесного лагеря.
— Я уже вижу, как мы все встречаемся в Германии! Все бывшие узники 41-го лагеря. Иногда мне кажется, что эти цифры у нас навсегда отпечатались на погонах. Интересно, кто скорее окажется в Германии: вы или я? — говорит фрау Ларсен.
Мы все чувствуем себя очень уверенно. Но за окном лежит снег. Даже солнце багрово-красное. Остывающий огненный шар, который опускается за сверкающим от инея лесом.
Мы в зале ожидания вокзала в Осташкове. Полтора года тому назад я лежал здесь на каменном полу, полуголый и промокший до нитки, и дрожал от холода.
Но я не хочу больше вспоминать об этом.
Сейчас на мне наилучшая экипировка, о которой может лишь мечтать всякий приличный военнопленный, — немецкий плащ мотоциклиста на теплой подкладке, меховые рукавицы и все остальное необходимое зимнее обмундирование. В моей большой сумке лежат две пары теплых носок. Это свидетельствует о том, что я богат.
Фрау Ларсен собрала нас, двадцать четыре человека, в углу зала ожидания.
— Не все из вас станут известными политиками или важными государственными деятелями, но я надеюсь, что каждый из вас станет честным антифашистом!
На ней советская военная форма — серая шинель с широкой портупеей. Она говорит как официальное лицо.
— Я надеюсь, что вы не уроните честь 41-го лагеря. Кого-нибудь из вас я наверняка встречу позднее в Германии.
Мне приходится поспешно стягивать рукавицу, так как она первому из всех протягивает мне руку на прощание. Я смущенно улыбаюсь, так как я слишком долго вожусь с тесной рукавицей.
— Всего хорошего! — говорю я. — Счастливо оставаться!
Мартин, которого мы выбрали старшим нашей группы, официально благодарит ее от имени всех:
— Да здравствует фрау Ларсен!
— Я благодарю вас! — растроганно восклицает фрау Ларсен. — Итак, рот фронт, товарищи! Рот фронт! Рот фронт!
Наш сопровождающий, молодой офицер, который имеет сомнительное удовольствие при тридцатиградусном морозе доставить нас целыми и невредимыми в школу, наконец нашел наш вагон.
Он находится на запасном пути, и мы тотчас начинаем заниматься его обустройством.
Какой-то местный железнодорожник предоставляет нам печку-буржуйку.
— Хорошо! — радуемся мы.
Уж мы как-нибудь сами оборудуем вагон. Мы с Куртом идем воровать уголь.
Остальные волокут со всех сторон доски для полок. Но тут появляется сторожиха, которая что-то кричит диким голосом. Закутанная в теплый платок и ватник, она грозно топает по сугробам с винтовкой на плече.
Все происходящее отвратительно. Едкий дым от маневровых паровозов. Яркий свет дуговых ламп, мерцающий в ночи. Эта сторожиха, которая, как дикий зверь, защищает свои доски. И мы.
Неужели она не собирается отдавать нам свои доски?!
Может быть, мы должны спать на голом полу??
Кто-то толкает ее в бок, и она летит в снег. Мы больше не немецкие военнопленные. Мы уже чувствуем себя наполовину русскими.
Наш сопровождающий, советский офицер, тотчас устремляется через железнодорожные пути к нам, как только маневровый паровоз освобождает проход.
Во всяком случае, теперь у нас есть доски.
Нам удается украсть также солому. И дрова для нашей печки!
Когда через шесть часов наш вагон прицепляют к составу, он уже полностью оборудован. Первое испытание мы выдержали с честью!
В этом вагоне нам предстоит провести десять дней и десять ночей. Десять суток тряски и грохота или многочасового стояния на запасном пути.
Сначала мы проезжаем мимо стекольного завода, где старостой актива является Йодеке.
Однажды, когда мы с Куртом спускаемся с железнодорожной насыпи за дровами, поезд неожиданно трогается, и мы едва успеваем в самый последний момент вскочить в вагон. При этом Курт теряет один башмак.
Но на следующей остановке кондуктор из последнего вагона приносит Курту его башмак. Во время этой поездки все складывается удачно!
Правда, Мартин раздосадован, так как он подозревает повара в том, что тот сбыл часть хлеба налево. Но я успокаиваю его словами «через четыре месяца» и напоминаю о предстоящей отправке на родину.
— Собственно говоря, еще в конце ноября мы должны были бы отправиться домой! — говорю я. — Ты помнишь о нашем гадании в бараке? В широком смысле это предсказание сбылось!
— Мы еще хлебнем горя с этим Фриделем Каубишем! — говорит Мартин. — Вот увидишь: не успеем мы прибыть в школу, как он сразу помчится в политотдел, чтобы доложить о каждом из нас. Хотя в последние недели он вел себя более сдержанно. Фрау Ларсен считает его законченной свиньей. Из-за того, что он выдавал на расправу своих товарищей, Борисов сделал так, что он месяцами получал паек дистрофика. Ты только посмотри, каким жирным он стал!
Мартин до крайности возмущен системой, при которой судьба людей ставится в зависимость от настроения и фантазии тщеславных подлецов.
Когда мы в очередной раз снова останавливаемся, Мартин отводит меня в сторону:
— Ты же знаешь о той злосчастной докладной записке, в которой майор из фронтовой школы охарактеризовал меня «неисправимым буржуазным интеллигентом»!
— Да, знаю, — говорю я.
— Я должен кое-что тебе рассказать: недавно наши личные дела попали всего лишь на пятнадцать минут в руки фрау Ларсен. Она нашла в моем личном деле ту докладную записку, вырвала ее и уничтожила!
— Дружище Мартин! — испуганно говорю я.
— Я еще никому об этом не говорил, кроме тебя! — признается Мартин.
— Да-а-а, — говорю я, растягивая слова, — твое доверие — честь для меня. Но ты не должен говорить об этом даже мне. Мы и так полностью доверяем друг другу. Зачем обременять себя лишним знанием!
— Ты совершенно прав! — оправдывается Мартин. — Но ты не можешь себе представить, как я страдал из-за этой злосчастной докладной. Из-за нее я не мог выходить за пределы лагеря. Хотя я и был старостой актива. Очевидно, я никогда не смог бы вернуться в Германию, если бы эта докладная записка не исчезла из моего личного дела.
— Иногда я задаюсь вопросом, почему Ларсены делают это! — задумчиво говорю я. Постепенно до меня доходит, как же это опасно изымать что-то из личных дел, которые хранятся во втором отделе. — Я бы еще мог понять, если бы Ларсены мстили немецким военнопленным за те муки, которые они испытали от нацистов.
В первое время я намеренно вел себя очень сдержанно, когда Ларсен приходил к нам в антифашистский актив лесного лагеря.
Не похоже и на то, если бы у Ларсенов были свои любимчики, которых они поддерживают только потому, что те напоминают им о временах, проведенных в Берлине. Я твердо убежден в том, что Ларсены спасли жизнь тысячам военнопленных!
Мы прогуливаемся взад и вперед между железнодорожными путями на какой-то заброшенной станции. Мартин и я, двое военнопленных, которые рассуждают о человечности.
— Только благодаря Ларсенам я понял, что подлинная гуманность не имеет ничего общего с сентиментальностью, — объясняю я. — Подлинная гуманность — это сила! Огромная сила!
— У нас так много говорят о «сибирском ангеле», сестре милосердия шведского Красного Креста, спасавшей пленных во время прошлой мировой войны, — говорит Мартин. — Пусть Эльза Брандстрем, неустанно трудясь, сделала немало для спасения военнопленных в царской России. Однако я думаю, что сейчас Ларсенам приходится действовать в гораздо более трудных условиях!