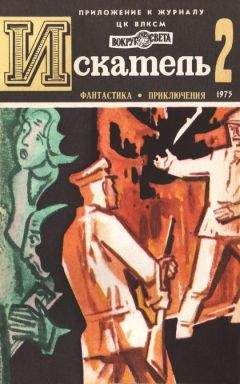Степан-левый шел трудно, ноги плохо двигались. Уманский держал его под руку, хоть он и уклонялся от поддержки, стеснялся.
— Не надо, товарищ военфельдшер, — гнусавил простуженным голосом. — Я сам могу…
— Меньше разговаривай, — посоветовал Уманский. — Гнилой ветер глотать.
А ведь скоро весна (подумал Иноземцев), начало марта уже. Неужели кончится эта зима? Так и не удалось мне вырваться в Питер…
— Просьба есть одна, — продолжал меж тем Тюриков. — Если письма будут приходить, так, может, кто занесет? Чтоб не пропадали…
— Да не беспокойся, — отвечал Уманский, — не пропадут твои письма.
Тюриков с осени не получал писем из дому, из деревни под Порховом Псковской области. По ту сторону фронта осталась его деревня на тихой речушке Шелонь. Но шел в Кронштадт поток писем из тыла — незнакомые девушки писали дорогим морякам-балтийцам, чтоб крепче били врага, — и на те письма, что попадали на «Гюйс», отвечал Тюриков. Не на все, конечно, — на часть писем слали ответ и другие бойцы. Но писали они не аккуратно, можно сказать — отписывались. А Тюриков отвечал незнакомым девушкам длинно, подробно, со вкусом. И пошла у него такая переписка, что корабельный почтальон стал со Степана-левого требовать то табаку, то компоту для подкрепления сил, положенных на таскание писем.
Еле тащился Тюриков, с трудом передвигая по скользким плитам улицы Аммермана распухшие ноги. А про девок своих помнил и беспокоился, чтоб, не дай бог, не остались они, бедняжки, без его писем.
— Одна, — говорил, — у меня осталась тетрадка. Не знаю, что и делать. В госпитале-то бумаги не дадут…
— Что ж вам целой тетради не хватит? — спросил Иноземцев. — Или долго лежать собираетесь в госпитале?
— Не, товарищ лейтенант, не в том дело. У меня, быват, одно письмо полтетради съедат.
— Писатель, — качнул головой Уманский.
На углу Интернациональной их остановил патруль. Строгости пошли той зимой в Кронштадте: ходили патрули, проверяли, чтоб никто не шлялся по улицам без дела. И надо же, сам помощник коменданта остановил их, долговязый рябоватый капитан по кличке Рашпиль. Долго читал документ — направление Тюрикова в госпиталь, — потом потребовал у командиров удостоверения личности.
— Два командира одного краснофлотца ведут, — сказал жестким комендантским голосом. — Военфельдшер — понятно. А вы, инженер-лейтенант, зачем идете?
— Старший краснофлотец Тюриков — мой подчиненный, — ответил Иноземцев.
— Ну и что? Военфельдшер отведет. А вам придется пройти в комендатуру.
— Товарищ капитан! — взмолился Иноземцев. — Я в госпиталь просто по дороге. Мне надо в ОВР к флагмеху отряда!
Рашпиль недоверчиво смотрел на него:
— Теперь и флагмех появился. Путаете вы что-то, лейтенант.
— Ничего я не путаю. — Иноземцев насупился. — Я механик корабля, и у меня есть дело к флагмеху. Я просто по дороге…
— Не по дороге, — отрезал капитан. — Вы знаете, где ОВР находится?
Иноземцев еще больше нахохлился:
— Я не могу вам сказать, где находится ОВР. Это военная тайна.
Рашпиль медленно удивился:
— Вы что это нахально разговариваете, лейтенант?
— А вы как разговариваете? Что за тон у вас? Что за подозрительность?
Помощник коменданта разглядывал его пристально, как ботаник кузнечика.
— И-но-зем-цев ваша фамилия? Будет доложено, лейтенант Иноземцев, как вы себя ведете. Как мешаете порядок наводить в крепости.
— Я не мешаю, — начал было вконец осерчавший Иноземцев, но Уманский с силой дернул его за рукав, и он замолчал, отвернувшись. Вытащил из внутреннего кармана шинели мятый блокнот, протянул Степану-левому: — Возьмите, Тюриков, письма писать. И поправляйтесь побыстрее.
Козырнул коротко и быстро зашагал обратно по Аммермана. Помощник коменданта прищурился ему вслед, но не окликнул.
Дойдя до Октябрьской, Иноземцев повернул и пошел вдоль ограды Морзавода к зданию ОВРа. Вот и познакомился с Рашпилем (думал он). Верно вас, товарищ капитан, прозвали — и голосом, и повадкой точненько под этот жесткий предмет подходите. Да что это такое — лишний квартал уже нельзя пройти в Кронштадте! «Путаете, лейтенант… мешаете порядок наводить…» Сразу стращать, так твою так! И откуда паршивая эта манера — не верить на слово, подозревать в тебе непременно злой умысел… будто одно у тебя в голове — как бы порядок нарушить…
Но понемногу раздражение выветривалось. Норд-вест набирал силу. Гудел над городом, срывал с сугробов ледяную крошку, где-то громыхал железом. От этих завываний и громыханий сделалось Иноземцеву тоскливо. На корабле всегда есть работа, в которую, как в спасение, уходишь от приступов тоски. Тут же, на длинной улице, под мощными накатами ветра вдруг ощутил он себя маленьким и затерянным. Будто, сойдя прошлым летом с невской набережной на рейсовый катер, унесший его в Кронштадт, он перестал управлять ходом своей жизни. Огромная стихия войны подхватила его и понесла, перекидывая с гребня на гребень. Разве не случайно уцелел он со своим тральщиком? Гибли на минах, гибли под бомбами корабли, подорвался однотипный тральщик «Выстрел», погиб однотипный «Фугас»… В сущности, уже много раз человечество могло потерять инженер-лейтенанта Иноземцева — и даже не узнало б об этом. Ну, пошла бы похоронка в Киров, мать оплачет его — и все. Он перестал бы существовать, и скоро о нем забыли бы все, кто его знал, — ну, конечно, кроме матери… и отца…
Мысль об отце еще добавила горечи к его размышлениям. Отец всегда был для него богом. Отец не должен был — что не должен был? Здесь был тупик, в который упиралась мысль Иноземцева всякий раз, как он думал об этом. Другую женщину рядом с отцом почему-то он не мог себе представить. Под Новый год он написал отцу коротенькое письмо — поздравил с Новым годом и пожелал здоровья — и отправил по старому адресу, который он помнил, на новоземельскую станцию. Ответа не пришло. Впрочем, у отца мог быть теперь другой адрес.
Отец был болью, загнанной глубоко внутрь…
Возле дома, где помещался ОВР, порыв ветра чуть не сбил Иноземцева с ног. Ничего себе ветерочек (подумал он), может лед на заливе поломать.
Флагмех отряда траления был занят срочной писаниной — велел Иноземцеву подождать. Иноземцев сказал, что он, собственно, на минутку — насчет поршневых колец.
— Какие кольца! — взмахнул руками флагмех. Он был человек порывистый и беспокойный. — Рожу́ я их тебе, что ли? Посиди, Иноземцев, мне как раз сведения нужны с «Гюйса» о моторесурсах.
В общем, без толку просидел у него Иноземцев, — для себя, как говорится, никакого интереса. Только две-три бумажки — требования на техсклад — подписал ему флагмех. А насчет поршневых колец унес Иноземцев, да уж не в первый раз, одни обещания. Прямо хоть и вправду поднатужиться и родить эти кольца проклятые.
Вышел из ОВРа — тут и Уманский на подходе, бежит, подгоняемый в спину свирепым ветром.
— Ты куда, Михал Давыдыч? Тоже в ОВР?
— Да. В политотдел надо зайти.
— А как Тюриков? Хорошо ли устроил?
— Как положено. Нормально.
Только двинулся Иноземцев к Морзаводу, грудью ложась на ветер, как вдруг осенило. Кинулся обратно, догнал Уманского в скудно освещенном штабном коридоре.
— Михал Давыдыч, — сказал, сцапав военфельдшера за рукав, — ты ведь не будешь докладывать в политотделе… ну, насчет командира и этой девушки… не будешь, да?
— Не в свое дело не вмешивайся. — Уманский выдернул рукав.
— Ничего, кроме неприятностей, ему не причинишь.
— Если человек не понимает убеждения, то могут ему помочь и неприятности, — строго сказал Уманский.
— Не надо, Михал Давыдыч, не надо докладывать! Ты ведь знаешь его, он упрется, дерзостей наговорит… Да и девушка уже который день не приходит на корабль.
— Что ты вцепился в меня, как верблюд? — осерчал Уманский. — Я, между прочим, и сам тяну с этим делом… Был бы тут Балыкин, он бы с ним живо…
— Вот и дождись Балыкина, скоро ведь вернутся наши!
— Дождись, дождись, — скривил Уманский большой рот. — Мне в политотделе нужно наглядную агитацию получить, понял? — Он двинулся по коридору и бросил, оглянувшись на Иноземцева: — Только не думай, что это ты меня отговорил…
Проспект Добролюбова, как и все ленинградские улицы в эту нескончаемую зиму, завален снегом. Мертвым сном спит утонувший в сугробах трамвай. И, будто мало еще этих завалов, снег продолжает сыпать с серого неба. Он облепил шапки двух пешеходов, белыми погонами лег на плечи их черных шинелей. Пешеходы идут по узкой тропке — единственному фарватеру в непроходимом пространстве блокадной зимы. Это наши знакомые — полит рук Балыкин и старший краснофлотец Клинышкин. У Балыкина правая рука висит на перевязи.