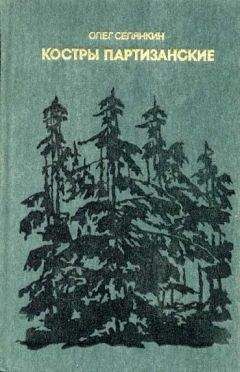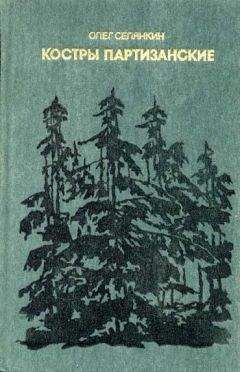Помнится, он ответил:
— Известно, баба, потому и потеряла. А оно в хозяйстве еще как сгодилось бы.
Она молча проглотила упрек, только глазищи упрятала.
Однако пословица правильно говорит, что шила в мешке не утаишь. Прокололо то шило Мариину котомку. Это Каргин к вечеру заметил.
Ох и хитрющая баба!..
А как они с Марией от двух полицаев отбились? Натолкнулись на этих сволочей, когда вовсе не ждали! Те, конечно, первым делом: «Кто такие и куда бредете?» Показали им документы, в самом почтительном тоне весь разговор с ними вели.
Вроде бы и придраться не к чему, а эти вцепились: шагайте с нами до управы, и все тут!
Пошли, конечно. Мария — впереди с одним из них. И все хиханьки да хаханьки строит, плечом будто бы случайно в его бок тычется. А тот дурак и разомлел…
Правда, и Каргин не сразу игру Мариину понял.
Зато потом, когда смысл ее заигрываний дошел до него, уловил момент и хрястнул кулаком в висок своего, всей тяжестью тела на него навалился. А Мария в это время на втором полицае повисла. Свалить его, конечно, не смогла, но и выстрелить не дозволила…
Помогла ему тех полицаев и в болото упрятать. Как заправский мужик помогала, все понимая без подсказки. И только после этого спросила, повернувшись к нему лицом:
— Синяк-то у меня под глазом большой всплывет или обойдется? — И вздохнула: — Как бы сейчас пятак медный пригодился…
А прошло еще совсем немного времени, вдруг прыснула в уголок платка.
— Ты чего? — удивился он.
— Я теперь всем бабам, с которыми разговаривать придется, обязательно говорить буду, что это ты меня так разукрасил. Из ревности!..
Но все это, можно сказать, мелочи, о них черт знает почему сейчас думается. Самое же главное — задание выполнено: точнехонько установлено, что в тех краях партизан не было и нет. Какой вывод отсюда напрашивается?
В Кошевичах их встретил сам Костя Пилипчук. Ему и доложил Каргин, что, выходит, те, которые с Костей встречались, какую-то черную мысль имели.
И все это время, пока докладывал Косте, пока обедали и даже усаживались в сани-розвальни, Мария вроде бы не обращала внимания на Каргина. Зато в санях, когда Пилипчук заговорил с возницей, она вдруг прижалась грудью к плечу Каргина и торопливо шепнула:
— Теперь я за вами, Иван Степанович, хоть на край света пойду. Так что учтите мою заявочку!
1
Метель беснуется уже вторые сутки. Переметает дороги, озлобленно швыряет в глаза колючий снег. Даже плохо верится, что летом здесь было по-настоящему жарко. Но перед глазами фон Зигеля фотокарточка, на которой крупным планом он, стоящий по пояс в воде среди белых лилий. Довольный жизнью, улыбающийся в объектив.
Фон Зигель взял фотокарточку, еще раз взглянул на себя — того, летнего, и небрежно бросил ее в ящик письменного стола: то было в июле 1942-го, а сейчас уже февраль 1943 года. Траурный февраль. Во всех отношениях траурный.
Он механически потянулся к бутылке с водкой, стоявшей на письменном столе, и тотчас отдернул руку — нет, пока достаточно; сегодня он просто обязан быть трезвым, чтобы попытаться разобраться в сумятице своих мыслей…
Итак, сегодня утром опять прибыл доверенный человек отца, опять привез письмо, за которое, попади оно гестаповцам, можно лишиться головы. Иными словами, отец по-прежнему пытается навязать ему мысль о пагубности для Германии этой войны. И, видимо, для усиления воздействия даже цитирует шведов, заявивших, что разгром немцев под Сталинградом имеет для русских величайшее значение.
Только нужно ли цитировать каких-то вечно нейтральных шведов, если сам Геббельс недавно заявил по радио, и его слышал любой, кто хотел: «Мы переживаем на востоке военное поражение. Натиск противника в эту зиму предпринят с ожесточением, превосходящим все человеческие и исторические представления…»
У фон Зигеля отличная память, она не дает забыть, что еще год назад в некоторых секретных документах говорилось буквально следующее: «Если вследствие создавшегося положения будут заявления о сдаче, капитуляция Ленинграда, а позднее Москвы, не должна быть принята».
Вопрос о капитуляции Москвы отпал ровно год назад. А что касается Ленинграда… Советские войска недавно прорвали его блокаду.
И вообще теперь любому думающему должно быть ясно, что и вторая летняя кампания закончилась неудачно для вермахта.
Правда, он, Зигфрид фон Зигель, заподозрил это уже тогда, когда к нему в руки случайно попала сводка советского командования, в которой говорилось, что только за три дня боев в районе Сталинграда русские захватили тринадцать тысяч пленных, да еще на поле боя осталось около четырнадцати тысяч трупов солдат и офицеров вермахта…
Если быть откровенным, он эту сводку несколько дней все же считал блефом. До тех пор так считал, пока командование вермахта очень осторожно и завуалированно не заявило о том, что советские войска под Сталинградом предприняли ряд отчаянных атак, но… Дальше сообщалось только о подвигах солдат вермахта. Не соединений или частей, а одиночек! А фон Зигель был уже не восторженным мальчиком, он уже научился официальные документы читать и между строк, поэтому и догадался, что там, на берегах Волги, произошло что-то страшное. И для него лично, и для всей Великой Германии.
Короче говоря, он ждал сообщений о чем угодно. Но действительность оказалась страшнее воображения: он и думать не смел, что в Сталинграде безоговорочно капитулирует вся непобедимая армия фельдмаршала Паулюса!..
Фон Зигель рывком подался к столу, схватил початую бутылку с водкой и налил половину стакана. Налил — и сразу выплеснул себе в рот, а потом долго сидел, скривившись и закрыв глаза.
…В своем письме ты, отец, призываешь меня к спокойствию, напоминаешь о том, что фон Зигели всегда честно и до конца служили Германии. Что ж, благодарю и за это…
Но ведомо ли тебе, отец, что такое партизаны? Не вообще партизаны, а здешние, советские?
Они повсюду! Здесь партизаном внезапно может оказаться любой местный житель — старик, женщина или ребенок школьного возраста!
Если бы ты отец, сейчас слышал своего сына, ты, разумеется, сказал бы, что с партизанами нужно бороться. Решительно и безжалостно.
Бороться с партизанами… Разве мы, офицеры фюрера, непрестанно не ведем этой борьбы? Ведь только в 1941 году, в самом начале этой войны, мы получили три документа: 25 июля — приказ командования вермахта о действиях против партизан, 16 сентября — приказ «О подавлении коммунистического повстанческого движения», подписанный Кейтелем — начальником штаба Верховного Главнокомандования, а в октябре главное командование сухопутных сил вермахта разработало и повсюду разослало «Основные положения по борьбе с партизанами».
Как видишь, отец, в самом начале войны мы получили для руководства три таких документа, регламентирующих наши действия против советских партизан!
Думаешь, это хоть чуточку помогло, думаешь, хоть чуточку поубавилось партизан после того, как их стали расстреливать и вешать без суда и следствия?
В подобных случаях русские почему-то говорят: «Дудки!»
И тогда в августе 1942 года сам Гитлер подписал «Указания по подавлению партизанского движения на востоке». В них без дипломатических вывертов сказано, что партизанское движение «…угрожает превратиться в серьезную опасность для снабжения фронта и хозяйственного использования страны», в том документе сам фюрер потребовал: «До начала зимы в основном истребить отряды партизан и тем самым умиротворить восток позади линии фронта, чтобы избежать решающего ущерба для ведения боевых действий вермахта».
Да что там говорить об «основных положениях» и «указаниях», если приказом самого фюрера учреждена должность, неведомая истории, — Главнокомандующий подавлением всех партизанских сил на Востоке!!!
Чтобы с корнем вырвать проклятую партизанщину, были нами открыты специальные школы для агентов, предназначавшихся для работы среди партизан и местного населения, им читались лекции по предмету, о котором до этой войны никто не имел даже малейшего представления, ибо он называется: «Меры по озлоблению населения против партизан»!..
Фон Зигель очень боялся партизан. Пожалуй, даже больше, чем солдат Советской Армии. Может быть, потому, что первые все время шныряли вокруг него, ежечасно угрожали его жизни?
В те февральские дни 1943 года, когда во множестве немецких семей оплакивали мужей, сыновей и братьев, павших во славу фюрера в заснеженных просторах России, майор фон Зигель еще верил Гитлеру, но уже сильно сомневался в том, что самому ему доведется вернуться домой победителем. Поэтому допоздна и засиживался в своем кабинете, копаясь в собственной душе и стаканами глуша водку. Не рюмками, как было в прошлом году, а стаканами.