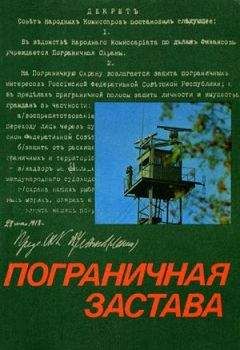Кутырев, силясь получше рассмотреть, кто там мечется в камнях, не заметил, куда переполз сержант. Он приподнялся повыше, и тут короткая злая сила рванула с головы ушанку. В уши ударил хлесткий раскат, гулко прянувший от гранитной стенки. Кутырев вжался в лед, пораженный не столько случившимся, сколько мыслью, что вот сейчас, сию минуту, в него стреляли, метили именно в его, кутыревскую, голову, чтобы раздробить кусочком металла его череп, прервать раз и навсегда его мысли, его дыхание, горячие толчки еще не унявшегося от бега сердца. Зачем? Что он сделал тому, кто только что так легко и чудовищно несправедливо чуть не лишил его жизни? Ведь это он тайком прокрался на его, кутыревскую, землю, а значит, это в его злой и неразумный мозг надо всадить, если уж на то пошло, девять граммов свинца в никелевой оболочке.
Вторая пуля пропела выше, и горячий от нее ветерок, показалось Виктору, ворохнул на затылке волосы. Голова без шапки сделалась вдруг беззащитной, будто с нее сняли непробиваемый шлем, и теперь, съежившись, он ждал третьего выстрела, ощущая какой-то занывшей жилкой то место, куда вот-вот вопьется неминуемая пуля. Руки дернулись сами собой и загородили это место автоматом — стальной ствольной коробкой. Попадет, обязательно попадет… Его же, гада, на снайпера учили. В спецшколе…
Припомнилось отрядное стрельбище. Сколько хлопот было, чтобы не дай бог не повернулся кто-нибудь с заряженным оружием в тыл огневого рубежа. Командиры отделений и даже офицеры заглядывали после стрельбы в патронники и заставляли делать контрольные спуски, подняв пустые автоматы в небо под углом в сорок пять градусов. А тут целят тебе в темечко, словно в тире, и ты уже наполовину мертв от цепенящего гипноза… Как в дурном сне. В ночных кошмарах надо вовремя вспомнить, что тебе это снится, вскрикнуть, шевельнуться… Кутырев рывком приткнул автомат к плечу, сковырнул предохранитель и, выставив ствол туда, откуда должна была прилететь последняя пуля, нажал на спуск… Он радостно поразился грохоту, который он натворил в этой стылой тишине, живому биению сработавшего механизма, алым всполохам в полуметре от глаза.
— Отползай! — прокричал откуда-то сбоку Суромин. — По вспышкам засечет!
И Кутырев резво засучил ногами, пополз, царапая лед бляхой ремня. Из-за валунов гахнул осторожный выстрел, но Кутырев его уже не боялся. Он замер метрах в десяти от Суромина, изготовился к стрельбе — благо пули летели не в сторону границы, но палить наобум не хотелось.
Так пролежали они четверть часа, пока не заныли от стужи колени.
— Дима! — окликнул Кутырев сержанта. — Может, подползем и с разных сторон!..
— Он тебе подползет. Лежи! Скоро наши подвалят. Зря не молоти! Бей только на отсечку.
Тот, за камнями, притих, видимо, берег патроны. Его убежище грозило обернуться ловушкой. Конечно же, он не станет ждать, когда сюда подрулят аэросани. Но все-таки на что-то надеется. На что?
Кутырев глянул на чуть посветлевший край неба и с ужасом понял, чего ждет тот, простреливший ему шапку. Рассвета! Они станут видны ему даже в самых серых предутренних сумерках. Он перебьет их, как тюленей на льдине.
Виктор выпростал из-под рукава мамин подарок, «Полет», — три часа. Если Небылица связался с заставой, то аэросани примчат минут через сорок. А если не связался? Атмосферные помехи? Да мало ли что?
Лежать на льду становилось невмоготу. Ноги совсем задубели, и холод, словно вода, пропитывал слой за слоем нетолстые кутыревские одежки. Ветер выдувал из рукавов остатки тепла, студил непокрытую голову. Мокрые от бега волосы смерзлись в сосульки. Надо бы поискать шапку… Кутырев лишь оторвал подбородок от приклада, как грянул выстрел. По щеке секануло ледяным крошевом — пуля клюнула возле плеча. Страшно захотелось ощупать свежую лунку.
Дело осложнялось теперь тем, что любое сколь-нибудь заметное движение выдавало их.
Ждать. Не шевелиться и ждать, пока за спиной не заревут воздушные винты…
Где-то он читал про пленного красноармейца, которого фашисты поливали водой на морозе, и тот силой самовнушения заставил себя поверить, что он изнемогает от жары, и даже парок закурился над его телом. Вспомнить бы, как пеклись они с Леной на сухумской гальке. После выпускных экзаменов родители увезли ее к морю, а он, вместо того чтобы готовиться в институт, тайком увязался за ними. «Случайно» встретил ее на набережной, и оба, нарадовавшись и наудивлявшись столь счастливому совпадению, отправились купаться. Раскаленные камешки пляжа испускали струистый жар, и чтобы прилечь, надо было поливать их водой.
Мама уверяла его в детстве, что человек, переспавший на сырой земле, на всю жизнь становится инвалидом, и запрещала садиться на траву без подстилки. Мама… Что-то она сейчас делает?.. В Москве сейчас вечер, вечер того самого дня, в котором каменьфазанцы безмятежно пребывали в жарко натопленном домике и предавались таким глупым раздорам. Вон лежит поодаль сержант Суромин, и нет теперь человека роднее и ближе его, потому что ни с кем другим Кутырев не делил еще такой страшной ночи, не лежал на ледяной плахе в ожидании прицельного по себе выстрела. И если им удастся выбраться отсюда живыми и невредимыми, то уж куда бы потом ни забросила их судьба, они все равно будут встречаться каждый год и вспоминать, как свистел ветер в высоких окольцованных автоматных мушках, как металась в камнях вражья тень, как предательски светлело небо.
А в Москве сейчас принаряженные горожане возносятся на эскалаторах к хлебам и зрелищам, спрашивают лишние билетики, ставят крестики в карточках спортлото, ничуть не подозревая, что из их шумных потоков исчезли два не самых плохих парня, и эти двое лежат на льду замерзшего озера, известного разве что географам, и сами постепенно превращаются в лед. И даже Ленка сидит, быть может, именно в эту самую минуту с каким-нибудь джинсовым хмырем и тянет через соломинку коктейль «Привет» или слушает с ним в пустой квартире «попсовую» музыку. Ведь не скажешь же ей на полном серьезе: «Только две весны, только две зимы ты в кино с другими не ходи».
Странное дело, Кутырев не испытывал никакой обиды ни на Лену, ни на тех праздных людей, которые беспечно предавались сейчас радостям жизни. Будто в его душе вместе с остатками тепла в груди вымерзли зависть, ревность, жадность, вымерзли и высыпались острыми кристалликами, и из их льдышек он теперь запросто мог сложить то слово, какое задала Снежная Королева своему пленнику, — «ВЕЧНОСТЬ»…
Он не слышал гортанного рокота аэросаней, не слышал хлопка и шипения осветительной ракеты, коротких потресков автоматных очередей…
Очнулся Кутырев от спиртового ожога во рту и, ощутив на миг душный запах овчины, тряску скорой езды, рев могучих моторов, забылся глубоко и надолго. Еще раз он пришел в себя, похоже, в госпитале, потому что пахло лекарствами, в глазах проплывали своды белых потолков, белые притолоки дверей; слегка потряхивало, его везли на высокой тележке, чей-то женский голос спрашивал: «Что с ним?», а мужской отвечал: «Гипотермия»… Кутырев хотел поправить: «Лихорадка скалистых гор», но язык и губы не шевелились…
Их положили в пустую многоместную палату, где стояли кровати с двумя матрасами на провально мягких панцирных сетках и тумбочки по одной на человека. Но, несмотря на всю эту роскошь, сержант Суромин требовал, чтобы его отправили к ребятам на заставу, так как он совершенно здоров и не собирается пролеживать зазря лучшие дни жизни. Он успокоился только утром, когда сестра высыпала ему на постель целый ворох накопившихся писем. Кутырев спал. Суромин аккуратно отсортировал почту его и свою. Двенадцать писем пришло «земеле» от матери, семь от сестры и одно — невесомо тонкое, с недавним штемпелем — от Лены. Поразмыслив, Суромин вынул его из стопки и спрятал под свой тюфяк — до лучших времен. Он знал по себе, что такие вот долгожданные и почти пустые на ощупь конверты опаснее неразорвавшихся гранат…
Зазвенела сетка, Кутырев заворочался — открыл глаза.
— Привет, Кутырек!
— Привет.
— Ну, как там твой Ингус поживает?
Кутырев вздернул брови. Вспомнил. Засмеялся.
— Нормально! Нос холодный — пес здоров.
ИГОРЬ КОЗЛОВ ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ
С океанской стороны шла высокая, пенистая волна, и, спасаясь от ее могучей силы, липло почти к самому берегу рыболовецкое суденышко.
Оно изрядно надоело пограничникам островной заставы. Капитан Новиков в который раз поднялся на наблюдательную вышку.
— Признаков нарушения государственной границы не обнаружено, — с подчеркнутой солдатской лихостью доложил ему ефрейтор Мухин и, понимая интерес командира, уже доверительно добавил: — «Рыбачек» этот… все тут… бултыхается.