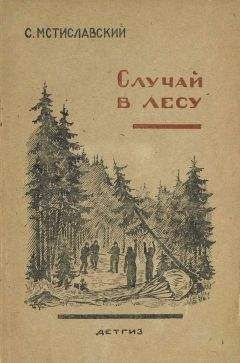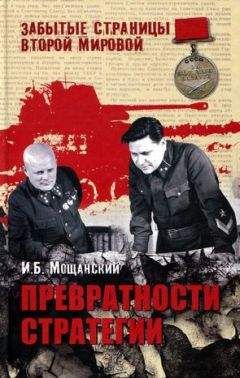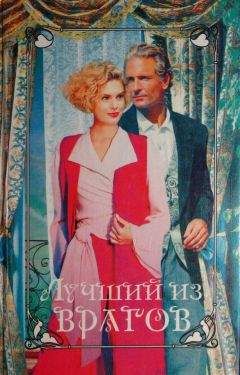– Я сама, нет...
Вера Панкратьевна с трудом встала и, тяжело опираясь на палку, подошла к Елене, положила руку на плечо.
– Ленуся, я... кроватку Мишенькину убрала оттуда и коляску тоже – подумала, тебе тяжело будет. Или не надо было? Уж и сама не знаю.
Елена, зажмурившись, часто-часто закивала.
– Нет, хорошо, правильно, что убрали. Спасибо, – прошептала она и, поцеловав руку на своем плече, быстро вышла.
Хорошо, что она не пришла сюда вчера, а осваивалась с квартирой поэтапно, перебарывая одну боль за другой. Кухня с его любимым местом в углу, где она по утрам, пока еще спали родители, готовила ему завтрак, а он просматривал газеты, рассеянно отвечая на ее вопросы; туалетная со старинной медной колонкой и высокой чугунной ванной на львиных лапах, которую он называл саркофагом; длинный темный коридор, где на антресолях пылились чемоданы и в стену были вбиты крюки для вешания велосипедов... Войти вот так, сразу, в их комнату – нет, это было бы слишком.
А теперь она вошла бестрепетно, не испытывая ни страха, ни боли, ничего, кроме бесконечной печали. Господи, почему так безжалостно долговечны вещи, зачем суждено им переживать своих хозяев? Вот и велосипеды обнаружились тут же. Вера Панкратьевна просто убрала их из коридора, оба целы и невредимы – допотопный дамский «Дукс», старомодно-элегантный в своей местами чуть облупившейся вишневой эмали и с шелковой сеточкой на заднем колесе («...на этой машине, Леночка, – да, да, в те времена машинами именовались велосипеды, а про машины в нашем сегодняшнем понимании говорили «авто» или «мотор». Помните – «пролетает, брызнув в ночь огнями, та-та-та, какой-то там мотор» – ну вот, уже и Блока стал забывать, – да, так о чем это я? А, про велосипед! Так вот-с, на этой машине Анна Дмитриевна соблазняла вашего покорного слугу вскоре после русско-японской войны, и соблазняла, я должен признать, весьма успешно...») и новый мужской, черный, марки «Украина» – Мишина премия, не вспомнить уже, за что, когда он еще был студентом...
В то незабываемое лето тридцать девятого года они почти каждый выходной уезжали на велосипедах на целый день – куда-нибудь по Приморскому шоссе, или за Стрельну по Петергофскому, в Мартышкино, в Ораниенбаум – Меншиковский дворец, Катальная горка... Неужели всего одно лето? Да, конечно, одно, в сороковом уже родился Мишенька, значит, это было только в тридцать девятом – но почему оно осталось в памяти таким бесконечно долгим, таким некончавшимся – черемуха в Верхнем парке, пруд возле Китайского дворца и белые ночи, возвращение последним поездом, а потом – пустынный Лермонтовский, набережные Фонтанки, Крюкова, Круш-тейна, через площадь Труда – наперегонки, чтобы успеть до развода мостов...
Как все же странно мы устроены, подумала она, утирая слезы, я ведь была совершенно счастлива тогда, в июне тридцать девятого – каких-то полтора года спустя...
Так скоро утешиться после потери родителей? И ведь не просто «потери», они ведь не умерли вместе от какой-нибудь заразной болезни, не попали в крушение, их участь оказалась страшнее – а я смогла так скоро утешиться только потому, что вдруг устроилась моя личная судьба, еще недавно казавшаяся беспросветной. Что это – эгоизм молодости, инстинкт самосохранения? И если бы не любила родителей, была далека от них, так нет же – любила, не представляла себе жизни без них и была близка – особенно, конечно, с мамой, отец был слишком погружен в свою науку, известную отчужденность это невольно создавало... Но все равно – поехав впервые в жизни в пионерлагерь, уже тринадцатилетняя, тосковала, писала отчаянные письма, пока не приехали и не забрали...
Да, странно, но иначе и невозможно, пожалуй, иначе нельзя было бы жить – если бы не эта способность забыть даже самое страшное, смириться с потерей самого дорогого, войти в новый отрезок жизни – как входят в новый, не обжитой еще дом – налегке, оставив за порогом все прежнее...
Елена прошлась по комнатам – две, да еще такие большие, зачем ей столько, может, обменять? Но жалко расставаться с Верой Панкратьевной, да и потом – когда оно вырастет – лишняя площадь пригодится, для зятя ли, для невестки... Ладно, рано об этом думать. Мебели осталось больше, чем можно было предполагать, сожгли только стол, несколько стульев, что еще? Да, секретер здесь стоял – тоже исчез. И уж совсем удивительно, что сохранилась даже часть книг. Немного, правда, а все же! Книгами-то можно было пожертвовать в первую очередь – но бедный старик предпочитал ходить разыскивать какие-то досочки, сучья... Да, вот этого я забыть не смогу, подумала она, ни забыть, ни простить себе этого – во веки веков. Господи, если Ты есть, если Ты видишь все, что здесь делается, – пошли мне возможность самой искупить свою вину, не перекладывая хотя бы частицы ее на невиновных...
– Тебе когда рожать-то? – поинтересовалась Вера Панкратьевна, когда Елена вернулась в кухню.
– В ноябре, если доношу.
– Да ну, типун тебе на язык! Чего же не доносить, скажи на милость, – молодая, здоровая, придумаешь тоже... Ленуся, ты меня извини, я из письма твоего как-то не поняла – ты что же там, замуж вышла?
– Нет, конечно. Как я могла бы не написать вам, если бы вышла замуж?
– А-а, ну-ну... Да оно, может, и к лучшему. После войны семью начать ладить – это как-то... надежнее. А дитя – это хорошо, Ленуся, это ты хорошо придумала, легче тебе с ним будет. То есть, конечно, оно и тяжелее, кто же спорит; но в главном – легче, это тебе такую даст... силу! – Вера Панкратьевна сжала кулачок и потрясла над столом, показывая, какую силу дает материнство. – Ты вот сама почувствуешь!
– Да, я... пожалуй, уже сейчас чувствую, – согласилась Елена. – Без этого... не было бы, понимаете, ради чего... Вера Панкратьевна, это правда, что Мишенька умер в стационаре?
– Господь с тобой, Ленуся, – испуганно ахнула соседка, – да неужто я в таком бы тебе солгала!
– Да, простите, я просто... – Она присела к столу, запрокинула голову, закрыв глаза. – Понимаете, у меня все время стояло перед глазами – как он остался здесь после... после них и... умирал один совершенно, брошенный, забытый, понимаете...
– Что ты, что ты, опомнись, не могло такого быть, да если бы нам всем вовсе уж худо стало – неужто не позаботились бы, да хоть дружинниц бы кликнули, деток-то подбирали, ходили нарочно по квартирам девчушки вот вроде той, что тебя встретила. Деток многих так спасли. А Мишеньку в декабре еще в стационар забрали, там всеж-таки хоть чуть, а протапливали как-то, а здесь ведь вовсе был холод... Хорошо, у нас управдом еще до холодов воду из отопления догадался спустить, а то и батареи бы все полопались, как в других домах. Хороший человек был, царствие ему небесное, тоже не пережил первой зимы...
Елена долго молчала, потом спросила:
– Вера Панкратьевна, вы в Бога верите?
– В Бога? Да нет, Ленуся, пожалуй, что и не верую больше. В молодости вроде веровала... давно, когда жизнь была благополучная. А потом ушла моя вера. Не могла я этого понять, если Он такой всевидящий и милосердный, как батюшки говорили, как же Он терпит и позволяет то, что люди с собой делают...
– Ну да, это... труднее всего понять. И все-таки... Мне кажется, не верить ни во что можно как раз наоборот – только если живешь совершенно благополучно. А так – вообще полная бессмыслица, да что я говорю «бессмыслица», это уже безумие какое-то предельное – допустить, что всему этому нет какого-то высшего оправдания... Я тоже – не знаю совершенно, но этого допустить не могу, это ни в какие ворота, понимаете, нас ведь учили, что все в мире разумно, даже в природе все разумно устроено, но тогда человеческая жизнь – жизнь общества – тоже должна быть, устроена разумно. А что получается? Ну где эта «разумность», где этот «мировой порядок»? Я, когда родителей забрали, жила одно время за городом... из квартиры выселили, из института отчислили, спасибо, нашлась наша бывшая домработница – приютила. Так вот, она – а она была верующая, мне тогда тоже странным это казалось, – она очень как-то спокойно на все смотрела. Не то чтобы равнодушно, нет, равнодушная не взяла бы к себе дочь «врага народа» – от меня ведь давние наши знакомые на улице шарахались, проходили мимо, не узнавая... У нее действительно покой и мир были в душе, понимаете, она говорила, что все это одна видимость, надо лишь перетерпеть, а потом каждому воздастся – и за то зло,, что он причинял другим, и за страдания, которые сам принял. Конечно, я не могла тогда этого понять, я и сейчас не могу сказать, что... ну, поняла, приняла до конца! Но вы понимаете, это действительно придает смысл всему, смысл, оправдание, разумность. А иначе...
– Ох, Ленуся, – Вера Панкратьевна покачала головой. – Ох, Ленуся, страшно мне за тебя. Ну что вот ты говоришь? Ведь это если кому другому так сболтнешь, если не дай Бог кто услышит, да еще и отец с матерью у тебя репрессированные, – ну хоть дите пожалела бы, если на себя махнула рукой!