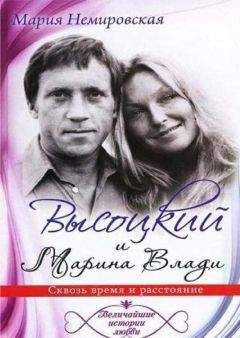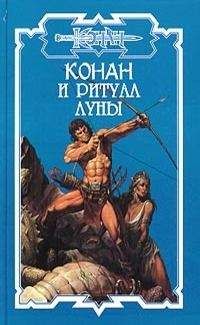— Что, серьезно, собирались стрелять ворон? На суп? — Хелена, прислонившись к столу, закатилась прерывистым смехом. — И жаркое из сусликов?.. Почему же из сусликов, фу!.. Не соскучишься с вами!
Хохот неожиданно оборвался. Да, сказала Хелена, человек должен быть готов к самому худшему. Вот и она на крайний случай хранит это… И подала мне письмо. Писал ее давний поклонник из Капошвара. Железнодорожный служащий. Не последний по нынешним временам человек.
Милостивая сударыня! Памятуя о былом, смею напомнить Вам о себе этими строками и полагаю, что мой драгоценный друг Енё, удостоивший меня в свое время приятельским расположением, простит мне, то есть смею надеяться, Вы не сочтете за навязчивость, что этими краткими строками отваживаюсь Вам напомнить, что есть на свете душа, которая, думая о Вас, любезная…
Тут мне пришлось прервать чтение.
— Лаци! — воскликнула Хелена.
В дверях возвышался мужчина с опухшим лицом, галифе с потертой кожей на шенкелях и сдвинутой на затылок охотничьей шляпе. Щеки у него пылали, он запыхался, по подбородку стекал пот.
— Что такое? В чем дело?! — прохрипел он.
Хелена выпрямилась, грудь ее возбужденно вздымалась. Но голос был, как ни странно, спокоен.
— Это настройщик, — кивнула она на меня.
— Кто-о?
— Ты же знаешь, наш ветхий рояль…
— И поэтому вы обедаете в милом уединении?!
— Ничего подобного! — Хелена, казалось, выросла, заполнив собой всю комнату. — Он уже уходит. А настраивать придет завтра. — И голосом на октаву выше добавила: — Бориш сказала, что послала за тобой! Велеть подавать суп?
Вечером, когда я рассказал, где мы завтра обедаем, лейтенант Франтишек только поморщился.
— Настройка рояля? Все ясно! — проворчал он по-стариковски. — Опять эти женщины!.. Разве во всемирной классовой борьбе это главное?.. Вовсе нет.
На следующий день, едва мы дошли до усадьбы, стало ясно, что обеда нам не видать. Рояль стоял под навесом. Куры чистили на нем перья.
Бориш выкатилась на террасу довольная.
— Уехала барыня Хелена, — скрестив на груди толстые руки, объявила она.
— Не дождавшись обеда? — недоуменно спросил я, чувствуя, как судорогой свело желудок. — Взяла и уехала?
— В Капошвар. Так она сказала. — И с торжеством добавила: — Больше сюда не воротится. А барин спит, много выпил ночью.
В мусорной куче белели фарфоровые черепки. И бутылка из толстого стекла с остатками зеленой жидкости на донышке. Да, вчерашняя настройка тут обошлась без нас.
— Крупный скандал был?
— Ой-ой! — счастливая, простонала Бориш. А там, у нее за спиной, наверное, булькал наваристый суп, томилось жаркое в обильном соусе и потрескивали в шипящем жире кусочки картофеля. Бориш смотрела на нас, как на цыплят, которых она собирается резать.
И от уложенных узлом волос, от всего ее тела, от передника, что обтягивал ее круглый, упертый в перила веранды живот, исходил одуряющий аромат триумфального пиршества.
Перевод Т. Гармаш
Жара. Мы плетемся вдоль железнодорожной насыпи из «прерии» домой; у наших ног по потеющим капельками смолы шпалам скользят притворно кроткие стальные змеи с ослепительно блестящими спинами: в дрожащем от зноя воздухе кажется, что далеко впереди они соединяются и поднимают головы, чтобы наброситься на кого-то раскаленным телом.
Из выгоревших серых лугов и задыхающихся желтых пшеничных полей выходим наконец к дворцовому парку. По шуршащему гравию насыпи съезжаем под густую крону деревьев, и вот уже нас обнимает тень, и прохладно льнет к спине мокрая от пота рубашка; расстегнув китель, я стараюсь отлепить ее от тела. Мягкая извилистая садовая дорожка приятно пружинит под нашими минерскими сапогами на толстой подошве.
Пепе показывает вперед, где проглядывает сквозь листву дворец.
— Смотри, какой домик имеет в наши дни каменщик!
Я отвечаю ему в тон:
— А чьим же ему еще быть? Он ведь стахановец, хорошо зарабатывает.
— Значит, этот каменщик нашел, чего искал.
Мы всегда так дурачимся, когда, плетясь с границы домой, доходим до парка. В прошлом году мы еще видели гуляющего в тени деревьев графа в брюках гольф, клетчатом пиджаке, с английскими усиками на безразличном помятом лице. Но на рождество он решил круто; изменить свою жизнь, что, собственно говоря, ему и удалось: он попытался бежать в Австрию и с тех пор лето проводит в Сталинвароше среди каменщиков. А мы переселились в парк. Не во дворец, от разбитого дворца только и осталось, что видневшийся издалека импозантный фасад с лепными барочными гирляндами да дыры окон с оборванными жалюзи. А за этой декорацией царила благородная тишина поросших бурьяном развалин.
Уцелели лишь прежние хозяйственные постройки, и свою кухню мы разместили в каретном сарае. В этот ранний час оттуда доносятся не запахи пищи, а только радиомузыка. Памач суетливо чистит картошку, в такт музыке размахивая черным чубом — и иной раз кажется, голова у него слетела с плеч, словно вырвавшийся из рук воздушный шарик, и носится вокруг шеи. С тех пор как он очутился далеко от мин — я назначил его поваром, — на цыганской физиономии Памача неизменно сияет улыбка.
— Голодные? — кричит он, стараясь переорать ревущее радио.
Стряхнув с себя картофельные очистки и отерев руки о штаны, он отрезает два ломтя хлеба, обмакивает в коричневый топленый жир и густо посыпает ломтиками лука. Пока мы лопаем, он смотрит на нас преданными собачьими глазами.
Сами мы поселились в воловьем хлеву. С двух сторон перед яслями во всю длину строения набросали соломы, постелили на нее одеяла, а в ногах, у бетонированной канавки для стока навозной жижи, возвели барьер из зеленых солдатских чемоданов, чтобы солома под ногами не разъезжалась в разные стороны. Жилье получилось прохладное и просторное, а беленые стены все еще дышали здоровым и мирным запахом животных.
Я присел у двери, закурил. Пепе принялся мыться и переодеваться.
— Ты ведь все понимаешь и не сердишься на меня, правда? — спрашивает он, стаскивая с себя пропотевшую форму. — Я должен попробовать.
— Конечно. Попробуй…
— Папа велел выпить перед этим пять двойных кофе.
— Ну и выпей пять. Или десять. Не забудь посолить, так сильней действует.
— Хорошо, что ты сказал; попрошу у Памача соли. В эспрессо, как пить дать, нет.
Он выплеснул воду из таза за дверь и, вытирая голову, подмигнул мне из-за полотенца.
— Как ты думаешь, удастся?
Я сплюнул окурок в лужицу мыльной воды.
— Не знаю, Пепе. Наверное, надо рассчитать так, чтобы кофе подействовал, когда ты будешь уже у врача. А это непросто.
Он почувствовал, что я не в духе.
— Я постараюсь, если ты меня отпустишь.
— А вдруг тебе придется долго ждать? Сам знаешь, как это бывает в госпитале. — Я пытался сделать вид, будто забочусь о нем, а сам все больше злился. — Сидишь в этом их провонявшем эфиром коридоре на гнилой деревянной скамье, мимо роскошные сестрички ходят, бедрами покачивают, а ты ими и полюбоваться-то не можешь, психуешь как дурак, а время все идет, идет!
Пепе вытирает влажные волосы.
— Хочу, чтобы там дефилировали самые красивые медички! Тогда сердцебиение уж точно обеспечено!
— Я выпил бы десять двойных! Действовать, так наверняка.
Он опустил полотенце и в замешательстве посмотрел на меня.
— Тебе правда хочется, чтобы мне это удалось?
— Ну конечно.
Он обрадовался моим словам.
— Ребята считают меня дерьмом, дезертиром.
— Три к носу! Любой из них спит и видит, как бы слинять отсюда, да только кишка тонка. К тому же тут одной храбрости маловато, нужно еще кое-что.
Пепе стоял голый на своей постели. Длинноногий, по-мальчишески крепкий, с узкими бедрами, ухабистыми от мускулов плечами и тонкими, еще не натруженными руками. Все в этом золотистом от загара теле было красиво, даже плоский подтянутый живот и тонкие пальцы на ногах. Оно только сформировалось, и ничто в нем не было еще растрачено.
Он наклонился к своему чемодану за трикотажными трусами, одеяло промялось у него под ногами.
— Этого доктора папа нашел. Я ведь рассказывал? Наверно, это свинство с моей стороны, но мне не стыдно, что я такой удачливый. Все надо испробовать.
— Тебе видней. А за нас не беспокойся.
— Если мне повезет, будешь жалеть, что я ушел?
— Еще как! — выпалил я, хотя вовсе не был в этом уверен, и закурил новую сигарету. Он так не похож на всех нас. Вот и сейчас, прежде чем надеть белоснежную майку, плещет под мышки одеколоном.
Он кивнул мне.
— Мы с тобой понимаем друг друга.
Взгляд его слишком больших и слишком темных карих глаз так липуч, словно тебя окунают в яму, полную меда.
Над бетонным желобом кормушки на решетке висела наша парадная форма. Он снял свою, встряхнул брюки и стал их натягивать. Все носили в сапоги портянки, он — носки. А ребята этих фокусов не любят. Его обзывали неженкой. Он только пожимал плечами.