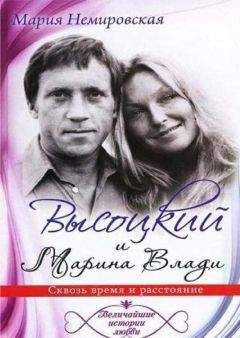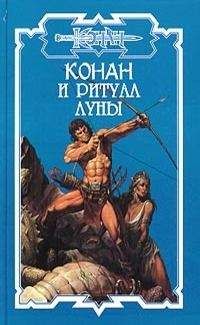Над бетонным желобом кормушки на решетке висела наша парадная форма. Он снял свою, встряхнул брюки и стал их натягивать. Все носили в сапоги портянки, он — носки. А ребята этих фокусов не любят. Его обзывали неженкой. Он только пожимал плечами.
— Не подержишь мне зеркало? Вот так. Спасибо.
Выпятив губы, он посмотрелся в зеркало. Зачесал слегка назад блестящие волосы, чуть сдавил их спереди ладонями, чтобы легли волной, и поправил сзади пробор. Он говорил, не сводя с зеркала глаз:
— Папа пишет, что его никак не хотели пускать в военный госпиталь. Но для него нет невозможного. Понимаешь? В конце концов он нашел-таки доктора! Он пишет, что мне ничего не надо делать, только попасть на осмотр именно к этому врачу. Правда, я не знаю, как там папа с ним все уладил.
Я опустил зеркало.
— Могу себе представить.
Пепе смутился.
— Не говори так. Может, это его старый знакомый. Ты даже представить себе не можешь, как у него много знакомых. Правда! И не то что врачи, даже министры. — Он отвел взгляд. — Ну ладно. Положим, он и пообещал какое-то вознаграждение.
Я примирительно проворчал:
— Какая разница. Главное, чтобы все удалось. Сердце есть у каждого, и забарахлить оно у каждого может, так что, если перед осмотром напьешься кофе, риск не так уж и велик. Я бы на твоем месте выпил еще пару рюмок рома.
— Ты что! Нельзя. Медсестра может почувствовать, и доктору ничего не останется, как объявить меня симулянтом. Не захочет он иметь из-за меня неприятности.
Я даже вспотел при мысли, какой я дурак.
— Ты прав. Я бы все испортил, потому мне даже и пытаться не стоит. Смотри ты не оплошай, твой старик столько стараний приложил.
Он растерянно вертел в руках расческу. Ему хотелось меня разубедить.
— Это всего лишь любезность со стороны доктора, поверь. Обычный осмотр. Будет чистым везением, если он что-то у меня обнаружит.
— Ну ладно. Я буду болеть за тебя.
— Спасибо тебе, что отпустил. Тем более знаешь, для чего.
Я встал.
— Пошли. Вдруг машину уже загрузили.
За железными решетчатыми воротами усадьбы, куда, не дотягивалась тень платанов, раскинулась широкая и пыльная площадь, отделявшая ее от железной дороги. Раньше по этой площади, описывая элегантный полукруг, подъезжали к станции кареты помещиков и брички арендаторов; а за бетонным забором выстраивались грузовые платформы, куда на запряженных волами телегах свозили урожай. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь только к нам приходили составы с круглым лесом для постройки проволочного заграждения на границе. Сегодня один грузовик этого леса надо отправить в Сомбатхей. Утром звонили на станцию, и к нам примчался рабочий-железнодорожник. Мы ушли на границу, наше рабочее место, еще на заре, один Пепе возился в хлеву за «письменным столом» — тремя поставленными друг на друга ящиками от мин — с каким-то донесением. Он и распорядился, чтобы начали погрузку, и прибежал ко мне в «прерию» отпроситься. Я сказал ему: «Конечно, поезжай». Но что-то сжалось внутри, ведь я мог и запретить. Но зачем? Дружба важнее каких-то полосок на плечах.
— Именно сейчас, летом, попытать счастья!.. Это хорошая примета. — Он задыхался от бега и от волнения, лицо стало совсем мальчишеским. — Для меня это очень важно.
— Разумеется. Ты ведь сын солнца!
— Ну и смейся… Мне плевать!
Несколько дней назад мы стояли тут же, Пепе рисовал план постановки минных полей и разглагольствовал о том, что он — «сын солнца». Он родился в такую вот летнюю жару. Его мать отдыхала в Шиофоке, и однажды, когда она загорала на пляже, играя с друзьями в реми, ей стало плохо; пока ее доставили в клинику, родовые воды уже отошли.
— Говорят, это хорошая примета. — Он подул на потное ребро ладони, чтобы не прилипала к листку с планом. Он вычитал где-то, что у инков только сын солнца мог быть вождем. И если женщина благородного происхождения рожала ночью или в ненастье, ее прятали до тех пор, пока не выглянет солнце, и тогда только объявляли о рождении наследника. Разве это глупо? Ведь на свете ничего нет могущественнее солнца. Не надо над этим смеяться.
У меня не было никакого желания смеяться. В изнеможении я присел рядом с Пепе в тени дикой груши. Руки были в смоле от ящиков, штаны — черные: я таскал мины, прижимая их к себе обеими руками, — плечи сгорели на солнце, струйки пота разрисовали грязную от пыли грудь причудливыми узорами.
Сгнившее проволочное заграждение мы заменяли новым. Во время работы нас охраняли два местных пограничника с пулеметами; мы всерьез боялись нападения с той стороны и что именно из-за него может вспыхнуть новая мировая война. Работали торопливо, до вечера надо было закончить этот участок границы, на ночь пограничный замок не должен остаться открытым. Кто в такой запарке станет слушать болтовню писаря?.. На жаре копошились двадцать минеров и два вспомогательных стрелковых взвода.
— Ну что ты за фрукт? — Я вяло смотрел на Пепе, сидевшего на ящике от мин, и пробовал собрать во рту столько слюны, чтобы можно было проглотить.
— Ты что, не понял? Я сын солнца!
— А я думал, сын удачи, раз тебе не надо подыхать тут над этими минами.
Он вздрогнул.
— Одно твое слово, и я тоже…
— Ну ладно, ладно. Не обращай внимания, у меня мозги спеклись.
Я не должен был говорить ему такое. У него столько бумажной работы: сводки, донесения, заявки на материалы, планы местности — словом, вся военная бюрократия; не знаю, что бы я без него делал.
По вечерам мы выходили в парк. Однажды он сказал, что будет астрономом. Мы глазели на таинственно мерцающие в черном небе звезды, а у нас за спиной в темноте взрывался захлебывающийся гогот и пьяные крики: ребята дорвались до палинки. Памач барабанил по дну кастрюли, и его звонкий голос выбивался из пьяного рева остальных.
Потом среди развалин поместья Пепе нашел книгу по машиностроению. Целыми днями он таскал ее с собой, показывал мне рисунки деталей, сечения и поклялся, что станет, пожалуй, инженером, потому что это дело стоящее.
Мы и русский учили по учебнику, который он привез с собой. Усевшись под яслями, писали странные буквы, пока Пепе это занятие не наскучило. Потом он задумал составить цыганско-венгерский словарь и мучил Памача, вытягивая из него цыганские слова, но тот стыдился, что он цыган, и нес всякую чушь.
— Какой ты все же утомительный, — осадил я его однажды вечером, когда мы зашли на станцию выпить в ресторане пива. В этот раз он бурно выражал свой восторг по поводу фармакологии, потому что у него дядя фармацевт. — Вечно у тебя какая-нибудь мания. К чему?
— Не всю же жизнь мы будем лодырничать в этом вонючем хлеву! Надо готовиться к будущему.
— Ну и какого черта ты хочешь от этого будущего?
— В том-то и дело, что не знаю! Потому как идиот последний и в университет не пошел. У тебя не бывает такого чувства неуверенности здесь, внутри? — Он сгреб на груди гимнастерку и своими открытыми глазами буквально поглотил меня, и не мудрено, после целого дня изнурительной работы я был совсем без сил. — Что с нами будет? На что мы можем рассчитывать в жизни? Я подумал, может, пойти в военное училище, раз уж все равно… Знать бы по крайней мере, чего ждать! А сейчас все так безнадежно. Я просто с ума схожу, как об этом подумаю. Мы сидим на дне ямы, а…
— Под нами мины, не забывай. Это надо пережить.
Он раздраженно закинул голову.
— Только и всего? Ты это серьезно?
— Не горячись. Нельзя суетиться, не положено. А будешь спокойно сидеть на заднице, все будет так, словно ты вылез уже из этой ямы. Выпьем еще пивка?
Мы вместе призывались в Шопроне. В первый же удобный момент приехали его родители. С криком «Пепе! Пепе!» к нему кинулась красивая длинноногая женщина в шляпе и английском костюме; и, когда они обнялись, из ее слишком больших и слишком темных карих глаз полились слезы. Он представил мне мать: «Пепи, мы ее так зовем в кругу семьи». Пепи погладила меня по щеке и шепнула: «Берегите друг друга, мальчики». Она вытащила зеркальце и, выпятив губы, поправила прическу. У лысеющего и толстого, перекатывающегося как мячик папы бегали глаза, словно он с интересом изучал культзал казармы, а не искал путей спасения сыночка. С тех пор они часто приезжали на служебной «победе» и, где бы мы ни работали, всегда умудрялись добиться пропуска в пограничную зону.
— Ну, прибыло святое семейство, привезло бисквиты, — ворчал Кудлатый Лайош. Мы его так прозвали за то, что был похож на волчонка из советского мультика. — Пепи, Пепе, папа, — сюсюкал он с издевкой всякий раз, как видел их вместе. — Магош, неужели тебя от них не выворачивает? Конечно, ты же у нас начальник, такой же как они, жрешь их бисквитики, а потом даже от солнышка их дорогушу оберегаешь. Однажды его укусит комарик, и мы сколотим ему гробик, — Кудлатый задрал рукава гимнастерки, оголив жилистые плотницкие руки. — А я только вкалывать хорош, да? И еще чтоб подорваться. А Бисквитный Мати в тенечке перебирает себе свои бумажки да рисует. Хорошо, нечего сказать!