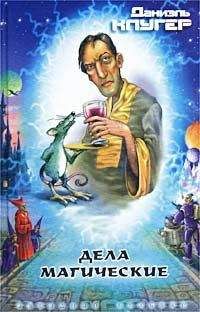Как бы то ни было, далее процедуры пошли без задержек, но мысленно я все время обращался к странному крику: «Газ!». Когда прибывших сопроводили в два барака, специально подготовленных накануне (их охраняли «синие» полицейские, поставленные Юденратом; эсэсовцы ушли на следующий день после появления детей), я спросил доктора Сарновски, что означала дикая сцена. Он немного помолчал, словно решая, стоит ли отвечать на мой вопрос. Его некрасивое костистое лицо с длинной челюстью и желтыми сморщенными мешками под глазами, в тот момент выглядело просто отталкивающе. Наконец, он ответил: «Освенцим. Аушвитц. Вам что-нибудь говорит это название?»
Я пожал плечами.
«Кажется, какое-то местечко в Польше. Помнится, я проезжал там. Давно, еще до войны. А что?»
«Там убивают евреев, — ответил доктор Сарновски безжизненным голосом. — Заводят в специальное помещение без окон. Пускают ядовитый газ. Такие кристаллы, их привозят в специальных банках. Несколько минут — и все кончено. А потом тела кремируют в специальных печах. Кое-кто из этих детей уведен оттуда в последнее мгновение. Во всяком случае, они были свидетелями убийства собственных родителей — именно таким образом».
Как я уже сказал, лицо его в тот момент выглядело отталкивающе. Словно гримаса, характерная для страдающих нервным тиком, навсегда изменило черты — совершенно неестественным образом. Трудно было по такому лицу-маске угадать, правду ли говорит его обладатель. Глаза доктора Сарновски смотрели в угол кабинета, где сырость вызвала к жизни большую колонию плесени, причудливо преобразившую стену в подобие абстрактной картины. Спустя несколько минут неловкого тягостного молчания, он оторвался от созерцания плесени и взглянул на меня. Глаза были тусклыми, я не смог определить их цвет.
«Не может быть… — пробормотал я. — Это невозможно».
«Почему? Потому что здесь, в Брокенвальде, этого не делают? — Сарновски криво усмехнулся. — А в других местах — делают. Если не газом, так пулями. И, кстати говоря, вы не задумывались, чем закончится ваше пребывание здесь?»
«Ваше? Или наше?»
Он покачал головой.
«Я здесь долго не пробуду… — он помолчал немного. — Эти дети пережили ликвидацию Ровницкого гетто, в Галиции. Для чего их перегнали сюда, в Брокенвальд — не знаю. Поначалу отправили в Освенцим. Там они прошли селекцию — это процедура отделения тех, кто подлежит немедленному умерщвлению, от тех, кто может еще немного пожить и поработать… Их продержали две недели. Затем погрузили в поезд и привезли сюда».
«Вы тоже из Ровницкого гетто?» — спросил я. Доктор Сарновски покачал головой. «Нет, я в тот момент уже находился в Освенциме, в медицинском блоке. Меня вызвали и приказали сопровождать детей сюда, в Брокенвальд…» — он снова замолчал. Потом сказал — другим тоном: «Насколько все относительно, доктор Вайсфельд. Насколько все познается в сравнении… Брокенвальд сейчас кажется настоящим раем. Идиллическим местом. Нет немцев в черных мундирах. То есть, они есть, но — там, за оградой. О них можно не вспоминать сутками. Их можно не видеть. Вообще не видеть, не замечать. Нет газовых камер, нет крематория. В Освенциме трупы сжигают в крематории. Нет бесконечной вереницы голых людей, обреченных на смерть… Можно ходить по улицам — по улицам, доктор Вайсфельд, по настоящему тротуару! Даже бараки, в действительности, — обычные дома. Да, тесновато — но и только. А капо, по сути, выполняют функции консьержей. Те ведь тоже частенько негласно доносили на своих жильцов… Утопия, доктор. Арийская утопия. Арийский великодушный жест в сторону неполноценных евреев. Так или иначе — нам можно позавидовать…»
В его голосе не было издевки, только бесконечная усталость.
«Арийский рай для евреев… — сказал он. — Знаете, в чем его особенность? В ощущении временности. На первый взгляд — все, как в обычной жизни. Нормальной жизни. Довоенной. Все то же — только все сконцентрировано. И пространство, и время как бы стянуты в крошечные… — он попытался найти подходящее слово. Не нашел, махнул рукой. — Словом, все процессы происходят на ограниченном пятачке и ускорены многократно. Все проживается быстрее. Во всяком случае, так мне кажется. Но ведь и время относительно, правда, доктор Вайсфельд? Вернее, его восприятие человеком…»
Дальнейшие мои расспросы ни к чему не привели. Доктор Сарновски замкнулся. Или, возможно, просто устал. Во всяком случае, ответив пару раз на мои слова каким-то неопределенным мычанием, он ушел. В один из бараков, подготовленных к приезду новоприбывших. Попытки узнать истинное положение дел от доктора Красовски тоже ничего не добавили — разве что он подтвердил, что да, прибывшие дети — из Ровницкого гетто, но больше он ничего не знает. И причину их пребывания в Брокенвальде — тоже не знает.
Еще больше удивления вызвала неожиданная доставка медикаментов и обеспечение вновь прибывших усиленным пайком — со строжайшим указанием в кратчайший срок превратить обремененных массой болезней состарившихся карликов в нормальных детей. Все это казалось какой-то странной игрой: за окнами новых бараков влачили жалкое голодное и скученное существование пятнадцать тысяч обитателей Брокенвальда (в том числе, и ровесники ровницких детей). А эти бараки волею коменданта Заукеля вдруг превратились в остров изобилия — изобилия нищенского, разумеется, но доктор Сарновски был прав: все познается в сравнении.
Дети приходили в норму достаточно быстро: исчезла болезненная худоба, прекратились нарушения функции желудка и печени. На их лицах появился румянец и — как следствие всех изменений — улыбки. Спустя короткое время после их прибытия были привезены игрушки — не новые, но вызвавшие настоящий восторг…
В канун Пасхи — еврейской Пасхи — произошло событие, еще раз подтвердившее правоту доктора Сарновски. Ночью мне не спалось. Неожиданный ветер — душный, будто долетевший сюда из дальних южных земель — бродил по крохотной каморки, служившей мне жилищем. Духота вызвала ощущение чего-то чуждого, даже опасного. Поднявшись с топчана, я подошел к окну, стекло в котором наполовину заменял неровный лист фанеры. Картина, представшая моему взору, казалась фантастической. Багровое зарево закрывало полнеба, отсветы дрожали повсюду — даже вечный туман, окутывавший замок Айсфойер, приобрел кровавый оттенок.
Дом, в котором я обитал, был последним домом гетто — дальше шла площадь, имевшая очертания почти правильной окружности. Метрах в пятистах находились ворота. Сейчас, на фоне багрового неба, они казались абсолютно черными — так же, как две вышки, по обе стороны от ворот. Причем вышки напоминали уродливых коней с непропорционально длинными ногами и короткими туловищами. Столь же уродливо выглядели навесы, под которыми неподвижно стояли солдаты. Фигуры солдат до половины скрывались ограждением, потому воображение тут же превратило их во всадников, сидевших на этих уродливых черных конях — и столь же черных.
Я не мог оторвать взгляда от ворот. Вдруг до моего слуха донесся мерный, постепенно усиливавшийся шум. Взглянув в другую сторону, я обнаружил его источник — медленно двигавшуюся темную массу. Когда она достигла площади, то оказалась группой людей, шедших в молчании. Через секунду я узнал в высокой фигуре, возглавлявшей шествие, доктора Сарновски.
Ворота беззвучно распахнулись, оттуда, снаружи, упала глубокая тень, казавшаяся кромешной тьмой — по сравнению с тускло светившимся небом. Доктор Сарновски шагнул в эту тьму, за ним последовали остальные. Тут я заметил застывшие в недвижности силуэты — по обе стороны центральной улицы и не столько разглядел, сколько угадал в них «синих» полицейских.
Только после того, как масса молчащих людей втянулась в распахнутые ворота, и ворота закрылись так же бесшумно, как и раскрывались, я понял, что пятьсот тридцать один — нет, пятьсот тридцать два — обитателя новых временных бараков покинули Брокенвальд.
Навсегда.
И одновременно с этим стих жаркий душный ветер. Вместо него словно холодный вихрь обрушился на землю, взметнув вверх тучи пыли. Мне запорошило глаза, а когда я протер их и смог вновь выглянуть из окна — ничего не было снаружи, что напоминало бы о виденном: красное зарево померкло, замок Айсфойер был едва различим на крутом склоне: силуэты полицейских тоже исчезли — словно их снесло холодным порывом. Меня зазнобило как при начинающейся инфлюэнце, на глаза навернулись слезы — результат то ли поднятой пыли, то ли самого ветра, казавшегося колючим и раздражающим.
Придя на следующий день в медицинский барак, я не застал там Луизу Бротман. Обычно она приходила раньше меня — на четверть часа. Я зашел в кабинет к доктору Красовски. Он сидел на корточках рядом с шкафом для инструментов и что-то искал в нем, по обыкновению что-то бормоча под нос. Когда я вошел, он бросил на меня косой взгляд через плечо и с еще большим рвением принялся перекладывать пинцеты и зажимы с места на место. При этом руки его дрожали, он то и дело что-нибудь ронял. В конце концов, ему видимо надоело. Он выругался громким голосом и поднялся на ноги.