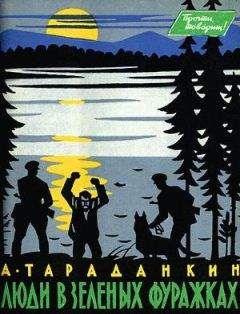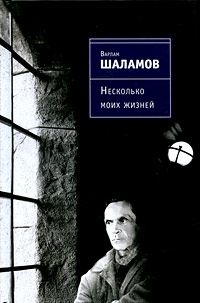Расстояние между судами сокращалось очень медленно. Когда до нейтральных вод оставалось не более двух миль, катер резко прибавил скорость, очевидно, надеясь выйти из советских вод до встречи с пограничным кораблем. Сообщив обстановку на командный пункт, Фуртас открыл огонь на поражение. Другого выхода не было. Ждать — значит, выпустить нарушителя безнаказанно.
Залп! Корабль резко качнуло. Еще залп! Море осветили яркие вспышки. На катере что-то взорвалось. Взметнулся язык пламени. Потом последовала серия мелких взрывов…
После прихода американского катера настроение Воробьева резко изменилось. На допросах он вел себя свободно, даже пробовал шутить. Материалы следствия пополнились показаниями о том, как проходила его дальнейшая подготовка к шпионской деятельности. Он рассказал, как с американским офицером Майклом Огденом вылетел из Франкфурта-на-Майне в Вашингтон, как в тридцати километрах от столицы Соединенных Штатов, в загородной вилле, изучал Приморский край СССР, занимался стрельбой, греблей, работал на ключе, дальше шли записи о вылетах Воробьева с Огденом в Нью-Йорк, а затем в Бойс (Западная Калифорния).
Цифры, даты, фамилии, населенные пункты…
Воробьев помнил их наизусть и обо всех рассказывал охотно, не забывая даже мелких деталей. Но совсем иначе вел он себя, когда речь заходила о его жизни в Германии. Настроение его портилось, этот период Воробьев помнил плохо, якобы потому, что жизнь его была там бесцветной.
Михайлов чувствовал: агент хитрит. Изучая Личные вещи Воробьева, капитан раскрыл его блокнот. Он просматривал его и раньше, но сейчас одна деталь показалась ему весьма интересной, даже загадочной: в блокноте были только стихи. Одни, видимо, владелец переписал из книг, другие сочинял сам. Эти, вторые, далеко не отличались ни стройностью, ни красотой, рифма была несовершенной.
Взгляд Михайлова задержался на песне:
Я иду не по нашей земле,
Просыпается хмурое утро…
Капитан знал эту песню. Но со второго куплета слова оказались другими:
Я Приехал теперь в Исфаган.
Всюду слышу лишь речь не родную.
И в чужих этих дальних местах.
Я по родине сильно тоскую…
А через один куплет шла такая фраза:
Из-за жирных мерзавцев двоих
Просидел я в тюрьме Исфагана…
«Исфаган? Исфаган? Где же это?» — вспоминал Михайлов. Он взял атлас и вскоре нашел в Иране город Исфакан. Может быть, у Воробьева тот же город, только в другой транскрипции?
«И почему человек, живущий в Германии, — думал капитан, — писал стихи об Иране?»
Следователь стал более внимательно изучать «творчество» Воробьева. Ему казалось, что именно здесь можно отыскать ключ к каким-то тайнам. Вскоре его насторожило весьма бессмысленное четверостишье, героем которого был «Женька Голубок».
— Женька? Кого он имеет в виду — себя или какого-нибудь приятеля? Женька Голубок! А может быть его настоящее имя Евгений, — размышлял капитан.
Наутро Михайлов как бы невзначай завел с Воробьевым разговор о стихах в блокноте. Гот начал рассказывать о своих «творческих порывах». Поделился, что многое там написано о себе.
— А среди стихов есть неплохие, — серьезно сказал капитан и достал блокнот. — Вот, например, четверостишье: «Звали, Женька, тебя Голубком…».
Михайлов заметил, как дернулись веки Воробьева, но спокойно дочитал до конца и как ни в чем не бывало стал листать страницы дальше.
Потом прочитал еще несколько стихов и, захлопнув блокнот, небрежно бросил его в стол.
— И это вы все сами написали? — с теплотой в голосе спросил Михайлов.
— Да, знаете ли, бывает такое настроение…
— Неплохо, неплохо. Там мне еще понравилась песня. Помните: «Я тоскую по родине».
— Это песня не моя, вернее, начало не мое, а потом я кое-что присочинил.
Теперь Михайлов начал более смело развивать новую версию. А что если?… И в тот же день заказал справки: не переходил ли где-нибудь границу в районе Ирана человек по имени Евгений.
Прошло около недели, а ответа все не было. За это время Михайлов проделал один весьма показательный эксперимент. На очередном допросе он заговорил с агентом по-немецки. Воробьев опешил и с трудом смог отвечать на этом языке. Следователь еще раз убедился, что агент «темнит». В Германию он попал, видимо, недавно.
На десятый день пришел долгожданный пакет. В нем было сообщение, что в 1950 году через Араке, нанеся увечье пограничнику, бежал переодетый в военную форму человек. Им, как предполагают, был некий Евгений Георгиевич Голубев, преступник, ушедший от суда за спекуляцию и воровство… Прилагалась фотография.
Сомнения рассеялись — на снимке был Воробьев. Теперь Михайлов понял замысел закоренелого преступника и предателя Родины. Спасая шкуру, тот сочинил новую биографию: Голубев рассчитывал, что, выдав себя за человека, ребенком заброшенного на чужбину, он добьется смягчения приговора. Вызовом американского катера шпион хотел обелить себя в глазах советских чекистов.
Не удалось!
В этот же день Михайлов перешел в решительную атаку. Голубев вошел в кабинет и, как всегда, учтиво поздоровался.
— Как-то, дней десять назад, мы с вами вели разговор о стихах. Помните? — спросил капитан.
— Помню, — беззаботно ответил преступник и смущенно заулыбался.
— Так вот, Евгений Георгиевич, может сегодня снова почитаем их?
Лицо Голубева стало серым. Он не мог скрыть волнения, услышав свое настоящее имя. Однако решил сопротивляться и твердым голосом произнес:
— Меня зовут Александр Михайлович. Вы ошиблись…
— Слушайте, — не обращая внимания на эту поправку, продолжал капитан, — «Звали, Женька, тебя Голубком…».
— Из этого вы и делаете вывод, что я Евгений Георгиевич, — громко перебил следователя преступник.
— А в стихотворении, кстати, отчество не указано. Но зато есть фамилия — Голубев. А вот ваша фотография, взгляните!
Шпион сник.
— Рассказывайте все начистоту, хватит играть в прятки!
— Да, я Голубев, — выдавил из себя преступник. — Голубев Евгений Георгиевич.
— Дальше!
— В 1942 году я вместе с родителями был угнан…
— Оставьте в покое родителей. Вспомните свои стихи: «Я приехал теперь в Исфаган».
— Я не был в Иране, — прохрипел Голубев и, прикрыв лицо рукой, истерически заплакал.
— Выпейте воды!
Михайлов протянул стакан. Голубев взял его дрожащей рукой и, расплескивая воду на костюм, выпил.
— А теперь рассказывайте, как в 1950 году перешли границу Советского Союза.
Через полчаса в материалах следствия появились новые фамилии, города, адреса. Голубев рассказывал. Теперь уже все.
— А потом я носил фамилию Алексеевский, Григорий Владимирович, — медленно говорил он. — В эту пору я познакомился с Кошелевым, а через него с американцем Стифенсоном, мы его звали Стив. Он обучал английскому языку. Поздней он отправил меня в Ширан — это курортное местечко. Там я жил на даче, которую занимали американцы. Потом ночью мы со Стивом вылетели в Мюнхен. На аэродроме нас встретил американец по имени Василий. Он мне дал имя Георгий Мюллер.
— На сегодня достаточно, — сказал Михайлов. — Теперь мы дошли до того места, откуда вы не боялись говорить правду.
Капитан вызвал конвойных, и Голубев медленно, сгорбившись, словно на него давил тысячетонный груз, двинулся к выходу.
Кто это ходит такой грустный: то остановится у пирамиды с оружием, то поправит салфетку на тумбочке, то проведет пальцем по струнам гитары Куприяна Трифонова и слушает молча, как она звенит. Да ведь это Саша Яблочкин! Чего же запечалился ефрейтор? Есть тому причина — сегодня последний день его военной службы.
Так всегда бывает в солдатской жизни. Приедет парень служить, поначалу тоскует по краям родным, потом привыкает. Полюбит полк свой, роту, отряд или заставу, и нет ему жизни милей. Приходит пора демобилизации — и снова затосковала молодая душа: жаль расставаться с товарищами, с командирами, что учили военной науке, с жесткой подушкой, на которую клал голову после трудных походов.
Нет, не один Яблочкин сегодня печалится. Не находит места и сержант Павел Шелков. Его и Николая Хлыстенкова наградили медалями «За отличие в охране государственной границы СССР». Теперь Шелков передал другу командование отделением — тому присвоили звание младшего сержанта. Все как будто ладно, а сердце болит, и вдруг не хочется уезжать.
…Минута расставанья. Из отряда пришел автобус. Крепко жмут руки товарищи. «Саша, пиши!», «Павел, не забывай!», «Петя, передай привет Смоленщине!», «Наташа, мужа не обижай!».