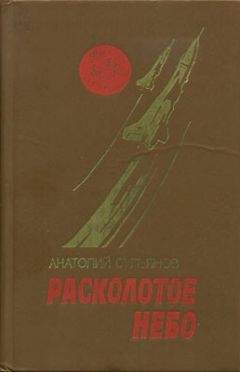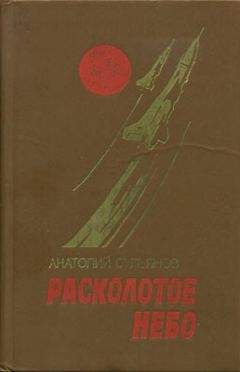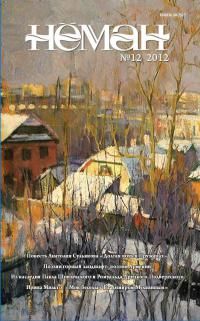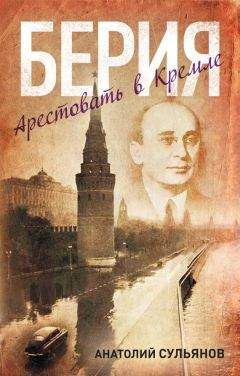Он заметно оживился, когда начальник связи включил мощную радиостанцию: из динамиков в зал ворвалась миогоголосица радиопереговоров и команд.
— «Севан»! Я — Триста двадцать пятый. Вас понял!
— Я — «Груша»! Сороковые — вам высота пятьсот! Цель у водного рубежа! Поиск автономно!
— Я — Пять ноль шесть. Остаток восемьсот! Буду садиться на «Туземце».
— Добро! Садитесь с ходу.
— Я — «Днепр». Всем «маленьким» в квадрате сорок один семь четыре покинуть зону. Начинают работать ЗУРы!
— Атакую группой!
— Пять ноль шесть. Я — «Туземец». Сообщи остаток.
— Я — Пять ноль шесть. Остаток восемь.
— «Большой», не крутись! Пленка нужна!
— Я — «Туземец». Переходи на снижение, оборотики убавь.
— Атаку закончил! Ухожу с набором!
«Вовремя подняли резерв перехватчиков. Теперь уж наверняка», — удовлетворенно подумал Скорняков. Из всего половодья слов и цифр незаметно выбрал для себя Пятьсот шестого и слушал только его. Пятьсот шестой шел с малым остатком горючего, запаса топлива для посадки в установленном районе базирования не хватало, поэтому он решил садиться на ближайшем аэродроме. «Проморгал, — мысленно упрекнул Скорняков летчика. — Где же это он сжег горючее? Наверное, долго мчался на форсаже, своевременно не запросил у командного пункта разрешения на выключение форсированного режима. Наверняка кто-то из молодых. Нет еще нужной выдержки, зрелости, потому и сжег горючее раньше времени. Теперь с топливомера глаз не спускает. В силу вступил закон подлости. А в эфире — рабочий гвалт. Забывать стали старый авиационный обычай: в воздухе ЧП — всем, кроме терпящего бедствие, молчать».
Скорняков поднялся, направился в «летный» угол, к полковнику Седых, и тут же услышал по громкоговорящей связи его тревожный голос:
— Внимание на КП! В квадрате сорок шесть — семьдесят четыре самолет терпит бедствие! Работать только на прием!
За Скорняковым в «летный» угол направился и Лисицын. Тут же упрекнул полковника:
— Что я вам говорил, товарищ Седых! Кто был прав? «Посадить на другие аэродромы». «Летчики подготовлены»! Вот вам и подготовлены! Разве можно было поднимать истребители в таких метеоусловиях?! Ночью! Когда в воздухе самолетов больше, чем звезд! Ребячество! — И подумал: «Седых отличиться захотел, наверняка потом скажет: «Авиация действовала в условиях, максимально приближенных к боевым. Риск оправдан».
Седых будто не слышал раздраженного Лисицына и продолжал делать свое дело, вполголоса переговариваясь го со Смольниковым, то с Прилепским; он видел, что рядом стоят Скорняков и Лисицын, но спокойно продолжал помогать терпящему бедствие летчику, управлял самолетами, находящимися в воздухе.
«Может, и прав Лисицын, — подумал Скорняков, заметив, что Седых трудится в поте лица. — Управлять авиацией при такой массе самолетов стало невозможно. И эта проблема требует автоматизации. Разве могут Седых или Прилепский держать в голове все необходимые данные». Он посмотрел на Прилепского: тот сжимал левой рукой микрофон, правой делал записи, не отводя взгляда от экранов и табло. Лицо покрылось испариной, щеки ввалились. Работает на форсаже, у самого предела человеческих возможностей. А тот же Седых… Отвечает за всю авиацию, беспрерывно принимает решения, помогает командирам. Как и у Прилепского, микрофон — у рта, правым плечом прижимает к уху телефонную трубку, левой рукой переключает табло «Сапфира»… А тут еще Пятьсот шестой растерялся. Обстановочка…
— Передайте на капэ, — Скорняков резко повернулся к штурману полковнику Смольникову, — пусть прекратят галдеж! В эфир выходит только Пятьсот шестой и руководитель полетов! И еще дайте команду о готовности «божьей службы».
Сидевший рядом с Прилепским и Смольниковым офицер связи удивленно посмотрел на них и тихо спросил:
— Что это за «божья служба»?
Смольников улыбнулся уголками рта:
— Так летчики называют службу спасения экипажей, терпящих бедствие. Это — специально подготовленные вертолетчики.
Смольников был высокого роста, в тщательно отутюженном кителе, плотно облегавшем его по-юношески узкий торс, и выглядел моложе всех находившихся в зале, но Скорняков обратился именно к нему, потому что Смольников дело свое знал отменно, мог за несколько секунд выйти на связь с любым летчиком или штурманом наведения.
Смольников передал указание командующего, повторил несколько раз позывные КП и летчика, согласно кивнул и положил трубку на аппарат.
Шло время, но тишины в эфире не наступало, и Скорняков то и дело поглядывал на динамики радиостанций, откуда доносились голоса летчиков, штурманов наведения, офицеров командных пунктов. «Если сейчас шум не утихнет, — думал Скорняков, — то растерянность летчика увеличится, и тогда до беды — рукой подать». И он не сдержался.
— Будет в воздухе тишина? Неужели нельзя прекратить этот базар! — кричал он в телефонную трубку. — Топливо на исходе, летчик на соплях тянет, а в воздухе галдеж несусветный! Вы — командир! Так и командуйте, как положено! — Бросил трубку, скрипнул зубами.
Не удержался… Других учил зря голоса не повышать, а сам…
— Седых, а ты чего молчишь? Наведи порядок в воздухе!
Полковник Седых, услышав голос командующего, встал со стула, подошел к радиостанции и взял микрофон:
— Внимание! Я — «Тайга». Всем работать только на прием! Только прием! На передачу работает один Пятьсот шестой! — Голос его, как всегда, был твердым, уверенным и спокойным. Положив микрофон, кивнул Смольникову: — Проследи, пожалуйста.
Шум в эфире стал постепенно утихать, и голос Пятьсот шестого зазвучал отчетливо; его запрашивал руководитель полетов аэродрома посадки, уточнял курс, напоминал о действиях с оборудованием.
— Видишь, Евгений Николаевич, — Скорняков успокоился, подошел ближе к полковнику Седых, — меня не все послушались, а стоило тебе взять микрофон — сразу тишина в эфире. Выходит, ты для пилотов самый большой начальник! Скорняков встал чуть-чуть в стороне от АРМа Седых, наблюдая за действиями его группы и вслушиваясь в радиопереговоры: Седых, Прилепский, Смольников следили за данными на экранах, записывали в рабочие тетради позывные, и севших на аэродромах летчиков, и тех, кто ожидал посадку, и тех, кто еще продолжал атаковать цели. До его слуха доносились радиокоманды и руководителей полетов, и офицеров командных пунктов, и троицы Седых.
— Остаток топлива пятьсот…
— Садись с прямой…
— Заведите на посадку с ходу…
— Займите зону номер три…
— «Большой», пройди по прямой — не успел отстреляться.
— Передаю управление «Байкалу»…
— Управление принял. Пятьсот девятый на связь…
Все это множество докладов и команд Скорняков мысленно разделил на три группы и, не замечая, принялся отслеживать радиоинформацию, вскоре он не удержался и мысленно очутился среди всего этого огромного роя, и им завладело напряжение руководства этим роем; несколько раз он подсказывал то Смольникову, то Прилепскому, приближался к ним, чтобы взять в руки микрофон, но в самый последний момент заставлял себя остановиться. Авиацией руководили самые опытные люди, и его вмешательство могло быть лишним. Но нервное напряжение осталось с ним, он долго еще находился в мире радиокоманд и докладов, среди тех, кто шел на перехват или заходил на посадку, переживая за каждого в отдельности и за всех вместе. Не заметил, как громче застучало сердце, зачастило дыхание…
Чем больше он наблюдал за действиями летной группы, тем прочнее становилась его уверенность в благополучном исходе рискованного решения полковника Седых по подъему истребителей, тем радостнее становилось ему от того, что резервы еще есть, возможности по применению авиации в самой сложной обстановке далеко не исчерпаны.
Скорнякову стало тепло на душе от мысли, что талантливый, одержимый авиацией Седых — его выдвиженец. С командира звена растил. Помогал, требовал, заботился. В академию чуть ли не приказом заставил пойти учиться. «Летаю водь! Зачем мне академия?»
Евгений Николаевич рядом с рослым, моложаво выглядевшим Смольниковым казался намного старше своих лет; лицо в редких, но глубоких морщинках, голубые глаза глубоко запали, щеки ввалились, нос расплющен, уши оттопырены, редкие пряди темных волос спадали на большой, выпуклый лоб. Седых редко бывал на КП, особенно в то время, когда там находилось большое начальство. То ли стеснялся своей непривлекательной внешности, то ли робел перед начальством… И только Скорняков да летчики знали настоящую цену этому неуклюжему на вид, конфузливо стесняющемуся, казалось, даже своих жестов, невысокому человеку. Седых добровольно вызывался облетывать после капитального ремонта на авиазаводе порядочно поизносившиеся самолеты, садился на вынужденную с отказавшим двигателем, но не отступал, пока не доводил машину до ума. В зоне испытаний он подолгу создавал предельные перегрузки и часто видел на стеклах приборов отражение своего искаженного и вытянутого центробежной силой, по-старчески морщинистого лица. Наверное, поэтому так рано одрябли щеки, потеряла эластичность кожа…