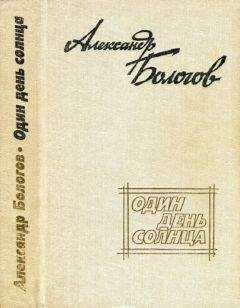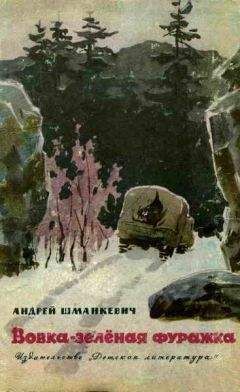А есть она у человека? Так, чтобы с самого начала была определена? Как говорят: что на роду написано… А по какому же такому правилу, если есть, она наделяет кого чем: кого радостью на каждый день, кого мукой? И можно ли ей как-то противоречить, или уже так и стоять и принимать, как послание божье? А есть ли он, бог?
Есть — так ей думается. Существует. Но не в каждом, или не для каждого, как думают некоторые, — это пустые слова. Он ведь никому не открылся, не открывается, никто его не видел, не разговаривал с ним, то есть не слышал явственно. Потому что он — надо всеми и в жизнь людскую никак не вмешивается. Он просто сотворил все, что есть. Так все толково и верно устроено — куда ни погляди. Грушу вот она держит в руках — все в ней на месте: и округлость, и заостренность кверху, как у дождевой капли, и вкус ее — душистый и здоровый. Как это чудо могло произрасти без предстоящей причины, без чьего-то разумения и вмешательства?
Или взять природу. Весной, как только ближе к теплу, все в ней начинает волноваться и проситься на волю — почки на деревьях, былинка-травинка каждая, вода в реке. И нет такой силы, чтобы задержала это движение к жизни, чтобы оно не заполоводило все на свете и не вдохнуло радости во всякую малую крупицу живого.
На лугу в конце деревни, куда они бегали детьми и любили играться, можно было задохнуться от радости. Это было счастье, о котором не думалось, но которое постоянно жило в тебе и наполняло душу покоем и удивлением. Полевое разнотравье, вольно раскинувшееся до самого леса, звенело песнями живого невидимого мира, и каждый голос в жаркой траве был так же к месту, как и каждый цветок и былинка, рождавшие в своей неразъемности картину истинной жизненной полноты и ее главного смысла.
А осенью, когда еще не близок мороз и еще ярко солнце, незаметно подбирается печаль, ложится на деревья странная мета — робости и недоверия. Лист уже не тяжел и не зелен — он где-то в междуцветье, которое не определить глазом, но сердцем отмечаешь. И вдруг в какой-то день окажешься в лесу… Что же это такое творится, боже ж ты мой! Откуда взялась эта сила, что создала такое творенье? Отчего все так вовремя гаснет в приближении холодов, ведь разумом наделен лишь один человек? Не тут ли нисходит всевышняя власть?..
Она ничего не может сказать — это хранится до случая. До того случая, который обязательно приходит к каждому, в поворотный момент жизни, когда должна открываться истина. А может, этого и не бывает, а просто кажется ей, когда она смотрит ясной ночью на темное небо и видит открытые ей навстречу глаза звезд. От таких глаз, бывает, не оторваться; и чудится, что может вдруг повеять тайным властным духом, и ты вздрогнешь, и, потеряв себя, устремишься к этим всевидящим глазам…
Да, в глубине души ее живет вера, что есть в мире защитник всего сущего, к нему она и обращается в трудные минуты, хотя и понимает, что он никогда не отзовется на ее голос, как и на голос кого-либо другого, ибо он — надо всеми, а не для всех. Но все же он всемогущ и велик уже одною возможностью обращения к нему всех.
Порою, забываясь, она взывает к нему, как к себе равному, как к живому существу, находящемуся близко, которому легко услышать се и понять и явиться судьею. И иногда — это бывает очень редко — ей все-таки мнится, что он услышал ее…
У них в Курцеве, на родине, ни одна гулянка не обходилась без драки. Драка была частью праздника, добровольной данью за сердечные распевы и тайные свидания, за сладость ответной страсти и горечь ревности.
Неизвестно откуда пробегала вдруг первая искра беспокойства, странного возбуждения, постепенно захватывающего весь корогод. Драка вызревала в неясном шепоте, в долгих внимательных взглядах, в неожиданно меняющихся жестах и походках. Курцевские парни сходились к одной стороне, слабеевские к другой; утрешние дружки играли друг перед другом побелевшими скулами. Пробегало какое-то слово, чаще — это было чье-нибудь имя, и начинало сосать под ложечкой…
Потом зачинная группа, точно нехотя, удалялась от места гулянки — наяривала гармошка, подпевалы выкрикивали рисковые частушки, а коноводы шли себе, поплевывали, выдерживали фасон.
«Господи, господи…»— шептала она девчонкой, не зная что сказать, кому просить защиты: своим, курцевским, с которыми сызмала бегала на луг, или слабеевским, что пришли к ним в Курцево гостями…
Бог судил сам. Среди ночи метались они по темным проулкам, ловили лихие вести о проломленной колом голове, о вылущенных молодых зубах, сплюнутых в кровяные ладони…
Хуже воровства считала эти дикие беспричинные сшибки. Хоть бы насмерть кого, чтобы на всю жизнь была наука, думала вгорячах в отчаянные минуты. Но и такое случалось, однако наука на пользу не шла.
Матерели и смирнели одни — вызревали и подтягивались другие, понятливо перенимавшие буйную игру дурной крови…
И ее Семен — слабеевский же — надколол однажды что-то в ее душе, да так и прожила с этим следом. Было известно, что в малых он был занозист, лез стыкнуться с кем угодно, лишь бы было по его. Но время текло, все дальше в прошлое отходили мутные завершения деревенских гулянок — в городе многое было иначе. И слава богу. А вот тогда, однажды, влетел в ее вагон, едва пассажиров успела выпустить — ходил ее по первости встречать, только начинала работать на железке, — выйди, говорит, побыстрей наружу, погляди, что там деется… А сам знакомо возбужденный, горячий, руки свои трясучие потирает.
Выбегла следом за ним — матеньки-боженьки! На платформе — драка. Сцепились двое вербованных — их эшелон стоял напротив, ждали паровоза. Один, навроде ее же Семена, некрупный, но жилистый, хрястал другого поднятым с земли обломком доски, не разбирая — по спине, голове, плечам. Удары были сухие и звучные, как если бы падали не на живое, и избиваемый, выбрасывая над головой согнутые руки, все старался перехватить доску рукой. Это был молодой парень, с голой головой под машинку, в фуфайке…
В первые секунды она задохнулась от горя, затряслись руки-ноги — не глядеть бы, не видеть…
Хрустнула и расщепилась доска — стала дребезжать при ударах. Сухопарый бил и кричал что-то об украденных вещах, а молодой закрывался локтями и тряс головой. Вдруг он вскрикнул и сунул в рот скрюченные пальцы — видно, перешибло, и бивший его опустил руки; тяжело дыша, поднес одну к зубам — вытащить занозу…
— Во как! — проговорил Семен опьянело, и ей показалось, что за серою, неожиданно набежавшею дымкой его глаз проглянуло какое-то тайное восхищение. Так ложилась эта дымка на его глаза в молодости, когда подходило время очередной сшибки с курцевскими или харинскими соседями.
— Там и паспорта наши, все документы, всё, что есть… Ах ты, сука!.. — говорил тог, что бил доской. — Ах ты, су-ука!..
— Не я!.. Не я!.. — хрипло повторял избитый. Шатаясь, он сделал несколько шагов — кольцо людей разомкнулось — и сгорбленный, дыша на окровавленные пальцы, направился в сторону своей теплушки.
Соединились два зла… Оба они одинаково гибельны для человека, оба уничтожают в нем самого себя. И воровство, и жестокость без меры равно преступны. А может, этот, в фуфайке, которому перебило пальцы, если и взял… Может, от нужды? — думала долгое время после этого, все искала оправдание человеку…
9
— Тa-ак, — сказал Бегунов, выслушав более или менее подробное объяснение Черенковым того, как они с вечера долго разговаривали, рассказывали друг другу всякие случаи жизни, а потому, конечно, поздно легли, да и потом еще некоторое время перебрасывались со своих мест шутками и историями и позасыпали уже глубокой ночью. Обильную выпивку Черенков решил не вспоминать.
Бригадир расположился на месте проводника, у окошка, рядом с ним сидела освободившая свое сиденье Егоровна, Черенков стоял у дверей. Кого-либо еще служебка вместить уже, можно сказать, не могла, и Бегунов, когда вошел в купе, опустился за столик, ладонью коротко, но плотно тронул сзади вставшую Люду чуть ниже талии и подтолкнул ее к двери. В те секунды, как он пододвигал Люду к выходу, он успел поймать ее недоуменный взгляд, прикрыть и снова поднять свои светлые глаза — так, как это делают, когда хотят ободрить или успокоить человека, и даже что-то пробормотать — неясное и для самого себя. Стан у Люды был легкий, бедро плавное и тугое; Бегунов, пока касался его, напряг по очереди каждый палец, слегка вдавив их в мягкое Людино тело. Люда сделала вид, что ничего этого не заметила.
Она оставила служебку — так велел бригадир, но далеко от дверей не ушла: бросать Егоровну в трудный час было нехорошо. Не будь Бегунова, она бы быстро показала этому субчику, где его часы, послала бы его к белым медведям…
«Неужели будет писать акт?»— подумала Люда о бригадире. Ну, а дальше что? Акт ведь ничего не даст этому обворованному, — как мертвому припарка… Сам-то он, дурачок, понимает это?..