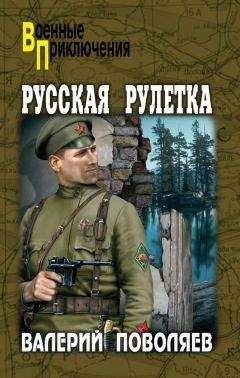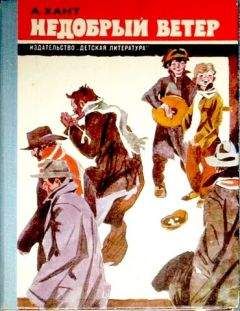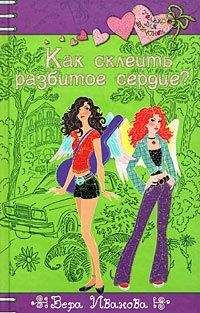— Может, я могу быть полезен вместо Крестова? — вежливо спросил дежурный.
— Нет, только Крестов. Позвоните и скажите ему, что с границы прибыл начальник заставы Костюрин.
— Понятно, что ничего не понятно, — произнёс дежурный и закрутил рукоятку телефона. — Не знаю только, на месте ли Крестов?
Лицо Костюрина напряжённо отвердело, очень хотелось, чтобы Крестов оказался на месте, — просто до стона, до слёз хотелось. Если нет, то хоть стреляйся из нагана. Крестов, слава Богу, оказался на месте.
Через десять минут Костюрин уже находился в его тёмном невзрачном кабинете. В кабинете имелось некое новшество, невольно бросавшееся в глаза — над головой Крестова висел портрет тонколицего интеллигентного человека с узкой бородкой, портрет был вставлен в роскошную раму, обвитую золотым виноградом.
— Кто это? — Костюрин ткнул пальцем в портрет.
— Тёмный лес ты, — укоризненно произнёс Крестов, — глушь, лишённая света, пограничная… Это — товарищ Дзержинский, председатель ВЧК.
— А-а-а… Никогда не видел.
— Ну, говори, зачем пришёл? Ведь не просто так, чтобы сжевать со мной по сухарю, пожаловал, не правда ли?
— Правда, Крестов, — Костюрин немо, вхолостую пожевал губами, сглотнул что-то жёсткое, образовавшееся во рту. — Беда у меня, Крестов, помоги, — с трудом выдавил из себя Костюрин, слишком тяжело доставались ему слова.
— Ну! — Крестов свёл брови вместе. — Излагай!
Костюрин всё изложил ему, как на духу, будто священнику на исповеди. И кто такая Аня Завьялова рассказал — бывшая елецкая мещанка, а ныне комсомолка, передовая труженица театрального производства, кем она ему доводится сегодня и кем будет завтра, и вообще… вообще это очень замечательный человек!
— Значит, свадьбу уже наметили сыграть? — хмуро спросил Крестов. — Дату обговорили?
— Обговорили. На начало августа.
— Мда-а, — щека у Крестова невольно дёрнулась, он почесал её ногтём и крякнул сдавленно: — Дуракам закон не писан. Боюсь, я этой твоей Ане Завьяловой ничем не смогу помочь.
— Как так? — Костюрин побледнел.
— А так! Ночью из Москвы прибыла группа следователей во главе с самим Аграновым. Ты знаешь, кто такой Агранов?
— Слышал.
— Беспощадный мужик. Группа будет расследовать деятельность «Петроградской боевой организации». Это крупная контрреволюционная банда. Самому Ленину о ней уже доложили… Твоя Аня, к слову, — в списках этой организации.
Костюрин побледнел ещё больше.
— Это ошибка, Крестов! Слышишь, это ошибка, — страшным свистящим шёпотом произнёс он, шёпот этот прозвучал громче крика. — Ошибка!
Крестов сжал челюсти.
— В нашем деле ошибок не бывает, Костюрин, — щека у него задёргалась. — А если и бывает, то, извини, это не ошибка, а исключение из правил.
— Что в лоб, что по лбу, Крестов!
— Не скажи! И давай не будем собачиться, Костюрин!
— Давай, — согласился с чекистом Костюрин. Слова доходили до него словно бы из далёкого далека, оглушённый бедой, он почти ничего не слышал, но тем не менее как-то — вторым дыханием, наверное, кожей своей, порами, — умудрялся понимать, что ему говорил Крестов.
— Этим делу не поможешь, — остывающим голосом произнёс чекист. — Пока не роняй голову, держись, а я узнаю, что для твоей зазнобы можно сделать. Договорились?
Сглотнув ещё один неудобный, твёрдый, как камень, и какой-то пыльный комок, возникший во рту, Костюрин выбил из себя, будто заряд дроби, очередную фразу, произнеся её прежним страшным шёпотом:
— Сколько тебе понадобится на это времени?
— Дай мне хотя бы три дня, Костюрин… А?
Было трудно дышать, Костюрин запустил палец под ворот гимнастёрки, ослабил его.
— А меньше… если меньше? Нельзя?
— Не дави! Дело деликатное, меньше нельзя. В меньший срок я могу не уложиться.
— Хорошо, — тяжело выдавил из себя Костюрин. — Пусть будет так…
— Только обещай одно — без меня ничего не предпринимать. Это обязательное условие.
Костюрин молча кивнул и вновь запустил палец за воротник гимнастёрки, потом не выдержал, выдрал один крючок — слишком он давил на горло. С шумом втянул в себя воздух, также с шумом выдохнул, просипел едва протискивая слова сквозь зубы:
— Извиняй меня, Крестов!
Шведов исчез из Петрограда внезапно, как «человек из синема» (тогда модно было крутить ленты «синема», где человеки двигались, будто живые, вызывали серьёзную задумчивость у детей и детский восторг у взрослых): только что навестил Николаевский вокзал, потёрся в толпе, пообедал в малоприметном ресторане «Стеклянный гусар», имевшем два чёрных выхода… Был, в общем, Шведов, и не стало его. Исчез.
Через окно он ушёл в Финляндию: понимал, что убийство Красина, человека, о котором он с таким восхищением рассказывал случайному незнакомцу, остановившись у газетной витрины, в одиночку совершить не удастся, и тем более не удастся взять драгоценный груз, который будет при нём, в поезде, — нужен напарник. Лучше всего, если это будет Герман.
Герман Юлий Петрович принадлежал к категории людей, которые долго собираться не умели и не любили, всего нескольких минут ему хватало, чтобы отправиться в любую дорогу (хоть на край света); выслушав Шведова, он стремительно вынесся из-за стола и одёрнул на себе френч:
— Я готов!
Жёсткое лицо Шведова засияло, как начищенная медь.
Но одно дело, когда готов сам Шведов, и совсем другое — груз, который должен проследовать вместе с ним через окно в Россию. Это письма, деньги, листовки, зарубежные газеты, эмигрантские брошюры и так далее.
— Побыстрее собрать груз не удастся? — спросил Шведов у Германа. — Подогнать кого-нибудь… Иначе мы застрянем, и Красин увернётся от возмездия.
— Удастся, — сказал Герман, — я сейчас же займусь этим. А ты будь готов в любую минуту выйти. Договорились?
Об арестах, что чекисты произвели в Петрограде, Шведов не стал рассказывать — Герман всё узнает на месте сам.
Над Финляндией плыли безмятежные кочевые облака, лёгкие, как пух, стремительные, рождающие внутри ощущение музыки — и действительно, в груди будто бы совершенно самостоятельно, независимо от человека, рождалась музыка и торжественно звучала в голове, в душе, в висках, в ушах, в конце концов, это была музыка победы.
— Сложности при переходе через границу были? — час спустя спросил Герман у своего приятеля.
— Никаких, всё прошло без сучка, без задоринки. Хорошую мы всё-таки дырку на границе организовали, — не удержался от похвалы в свой адрес Шведов, ткнул себя кулаком в грудь. — Я это сделал, я!
— Одного окна мало, нужно ещё одно такое, — задумчиво проговорил Герман.
— Зачем?
— Часто пользоваться одним окном опасно, можно завалить его. Необходимо иметь разгрузочное окно, обязательно надо. Этим уже начали заниматься… Делаю это я… Я! Вот через него мы пойдём на этот раз.
Поразмышляв немного, Шведов качнул головой понимающе, действительно нужно второе окно — хорошо смазанная дыра в границе… Они сидели в небольшой квартире, которую снимал Герман, в оконных стеклах отражалась синева небольшого залива, испятнанного белыми кляксами ленивых, неторопливо передвигающихся по воде чаек. Невдалеке от берега застыло небольшое судно — ну словно бы навсегда впаялось в залив, стало частью морской плоти. На палубе судна — ни одного человека…
— Хорошо тут, — сказал Шведов, — никакой суеты.
— Да, финны живут в покое и достатке и в ус не дуют, — согласился с ним Герман, налил водки в высокие, из чистого хрусталя рюмки, придвинул к Шведову плоскую изящную тарелку, украшенную ровно порезанной зернистой колбасой и пучками укропа. — Ни о чём не беспокоятся.
— В конце концов, Юлий Петрович, от большевистских преобразований может заплакать весь мир, всем достанется на орехи…
— К сожалению, финны этого не понимают, — Герман придвинул к гостю тарелку с хлебом, следом — тарелку с малосольным лаксом. По слабосольной рыбе финны всегда были большими мастерами, делали это блюдо так вкусно, что за ушами только треск стоял, от тарелки можно было оттащить лишь буксиром. — И по-моему, не поймут никогда. — Герман поднял свою стопку.
Шведов поднял свою. Чокнулись. Выпили. Шведов вкусно пожевал губами, почмокал — водка была хороша, приподнял бутылку, чтобы разглядеть этикетку:
— Однако!
Этикетка, приклеенная к бутылке, невольно вызывала уважение — это была смирновская водка, знаменитая марка, лучшей марки для патриотических застолий не придумать. Шведов щёлкнул ногтём по фигуристой этикетке и повторил звучно, с нескрываемым восхищением:
— Однако!
Яркую воду залива из одного угла в другой пересекал шустрый чумазый катерок — видать, приписанный в порту к нефтеналивным танкам. Герман проследил за ним прищуренным взглядом, на щеках у него вздулись и опали желваки. Интересно было знать, о чём он сейчас думает.