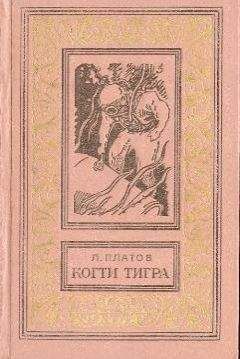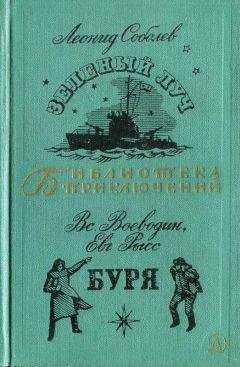В полном составе присутствуют в числе «болельщиков» и связисты поста.
Не удостаивая вниманием публику, старшина Тимохин выбил дробь на столе согнутым указательным пальцем. О, это был, бесспорно, виртуоз своего дела! На телеграфном ключе работал, я думаю, не хуже, чем Паганини играл на скрипке. Гальченко оробел, но не подал виду. Черенком вилки простучал ответ — конечно, не так быстро, как Тимохин, но в неплохом темпе. Матросы за столом заулыбались и придвинулись ближе. Краем глаза Гальченко заметил, что мичман Конопицын, начальник поста, многозначительно переглянулся со старшиной второй статьи Калиновским, командиром отделения сигнальщиков. Но лицо строгого экзаменатора оставалось непроницаемым.
Опять это дьявольское тимохинское стаккато! Старшина рассыпал по столу такую скороговорку, что кто-то, сидевший рядом, не удержался и восторженно крякнул. Гальченко собрался с духом и отстучал старшине ответ, по-прежнему довольно быстро. Понимаете ли, он очень старался!
— Ну как? — подавшись вперед, спросил моторист Галушка.
— Сойдет для начала, — небрежно ответил Тимохин. — До классного радиста, конечно, ему далеко. Но подучится, будет тянуть! Я на койке нежиться не дам!
И вы думаете, Тимохин отступился от него после этой проверки? Как бы не так! По два-три раза в день перехватывал на верхней палубе и мрачно говорил, смотря куда-то вбок:
— Воздухом дышишь морским? Успеешь надышаться еще! Пойдем-ка лучше в кубрик, делом займемся! Что зря на походе время терять!
Да, это был человек долга. Представляете, он занимался с Гальченко по специальности всю неделю, что «Сибиряков» шел от Архангельска к Потаенной. Как он пояснял, хотел натренировать память новичка и обострить его несколько туговатый слух.
— Стучишь ты, в общем, терпимо, — говорил он, — но за память тебя не похвалю, нет! Настоящий радист обязан ухватить во время приема и держать в памяти не менее двух-трех кодовых сочетаний, чтобы поспеть их записать. Мало ли что может случиться! Карандаш у тебя, допустим, сломался, чистый лист бумаги потребовался, крыша над головой, наконец, загорелась от снаряда. Тут и нужна радисту память!.. Слух тоже имеешь не абсолютный. Когда будет много помех в эфире, станешь нервничать, теряться, путать. А у настоящего радиста знаешь какой должен быть слух? Если, к примеру, играет оркестр, то радист обязан отчетливо различать любой инструмент. Хоть завтра в дирижеры нанимайся… Дай! — недовольным голосом требовал он и отнимал у новичка наушники. — Теперь стучи!
Они уже не перестукивались костяшками пальцев или черенками вилок по столу. Старшина раздобыл у радистов «Сибирякова» тренировочный пищик. Надев наушники, Гальченко с напряжением вслушивался в торопливый, очень резкий писк. Потом они менялись со старшиной ролями.
Воображаете картину? Сидят оба — взрослый и юнец — рядом на длинной скамье, как два сыча на одной ветке. Бортовая качка кладет «Сибирякова» с волны на волну, солонка и хлебница ездят взад-вперед по столу, приходится то и дело прерывать тренировку и подхватывать их, чтобы не свалились на пол. Из камбуза тянет кислыми щами и подгоревшим жареным луком.
Периодически новичка выворачивает наизнанку, но старшина Тимохин неумолим. Он говорит:
— Пойди страви и возвращайся. Не тот моряк плох, кто укачивается, а тот, кто при этом не хочет или не может работать!
Вот они и работали. Старшина — с небрежной ухваткой виртуоза, поджав тонкие губы, не глядя на Гальченко. Тот — втянув голову в плечи, надувшись как мышь на крупу.
Ему, понимаете ли, очень хотелось поскорее наверх, из душного кубрика на палубу!
Когда урок затягивался, земляк знаменитого киноартиста начинал все чаще поглядывать с робкой надеждой на старшину. Может, эта фраза — последняя?
Старший радист «Сибирякова» Гайдо, проходя через кубрик, ободряюще подмигивал Гальченко.
Как-то он остановился у стола и сказал:
— Хорошую ты себе военно-морскую специальность выбрал. Гордись, молодой!
Но, гордясь своей военно-морской специальностью, Гальченко очень уставал от тренировок с пищиком и порывался наверх, на палубу.
Ему, понимаете ли, хотелось побродить по кораблю, глазея по сторонам. Это же был «Сибиряков», о котором он столько читал! Первый в мире корабль, за одну навигацию совершивший переход Северным морским путем из Архангельска в Берингов пролив, пробивший форштевнем своим дорогу всем остальным кораблям!
Наконец, умилостивив Тимохина добросовестной работой, Гальченко выбирался наверх. По «Сибирякову» он ходил сами понимаете как! На цыпочках? Пожалуй, это у него не вышло бы из-за качки. Не на цыпочках, нет, но с благоговением!
Он даже не обращал внимания на то, что корабль не очень большой — в длину семьдесят три с чем-то метра, в ширину, если не ошибаюсь, десять или одиннадцать.
Закинув голову, Гальченко всматривался в топы мачт, выписывавшие зигзаг на мглистом небе. Рисовал в своем воображении, как все это выглядело, когда мачты и реи «Сибирякова» были одеты вздувшимися темными парусами. Это, как вы знаете, был самый романтический эпизод Сибиряковской эпопеи. Капитан Воронин был помором и в молодости немало походил под парусами. Не случайно же пришла ему в голову эта мысль — поднять паруса, сшитые наспех из брезентов, когда уже на финишной прямой перед самым выходом в Берингов пролив у «Сибирякова» сломался гребной винт и плавучие льды потащили пароход в обратном направлении. Последние мили сибиряковцы дотягивали под парусами со скоростью всего пол-узла, вдумайтесь в это! И все же дотянули. Так, под парусами, они и закончили свой путь — подобно Колумбу и Васко да Гама!
А сейчас, удивляясь самому себе, Гальченко запросто расхаживал по палубе легендарного корабля.
С почтительным сочувствием смотрел он издали на Качараву, нынешнего командира «Сибирякова», щеголеватого, подтянутого грузина, с неизменным белоснежным кашне вокруг шеи.
Почему он сочувствовал ему? Впоследствии Гальченко объяснил мне это.
Легендарный «Сибиряков», увы, оставался лишь вспомогательным посыльным судном, хотя имел кое-какое вооружение на борту, три зенитных орудия. Всего-навсего посыльное судно, и это с его-то биографией!
До конца войны обречен он нести свой тяжкий крест — развозить зимовщиков по зимовкам, связистов по их постам, а заодно и разнообразный груз: консервы, лекарства, стройматериалы и презренную квашеную капусту.
У одного кочегара, с которым подружился Гальченко — звали его Павел, — был патефон, которым он очень дорожил. Из пластинок уцелела только одна. Остальные, к сожалению, разбились в прошлый рейс, когда «Сибирякова» прихватило у Вайгача десятибалльным штормом. Павел иногда разрешал новичку прокручивать эту пластинку.
Называлась она, если не ошибаюсь, «Шаленка», старинный цыганский романс. Были там слова, которые очень подходили к тогдашнему настроению Гальченко:
Моя серая лошадка, Она рысью не бежит.
Черноглазая девчонка На душе моей лежит!
Никакая черноглазая или сероглазая еще не лежала на его душе. Однако «Сибиряков» на самом деле не бежал «рысью», а плелся едва-едва, словно бы прихрамывая при бортовой качке. Сравнение с «серой лошадкой» напрашивалось.
Кто лучше Гальченко мог понять сибиряковцев, обреченных развозить по Арктике зимовщиков, связистов и капусту! Ведь и он стремился воевать по-настоящему. Но — тоже не повезло: направлен в глубокий тыл, в какое-то никому не ведомое арктическое захолустье!
С командой «Сибирякова» у Гальченко сложились очень хорошие отношения, особенно с сигнальщиками-наблюдателями.
Без устали готов был он любоваться их пестрыми сигнальными флагами, красными семафорными флажками, а также фонарем-прожектором со шторками-планками, которые то открывались, то закрывались. В общем, фонарь хлопал ими, как кокетливые девушки ресницами. Нет, сравнение не подходит. Девушки проделывают это бесшумно. Здесь же беспрерывно раздавались шелест и грохот жести.
Когда «Сибиряков» проходил мимо береговых постов или навстречу ему двигались корабли, сигнальщик давал опознавательный сигнал и принимал ответ. Поразительно быстро, словно бы играючи, похлопывал он по планкам, и прерывистые проблески — точки-тире-точки — стремглав уносились из-под его ладони вдаль. Гальченко завистливо вздыхал. На мостике тоже работали знатоки своего дела, виртуозы.
Хотя полярный день тянулся бесконечно, но проблески прожектора хорошо принимались на большом расстоянии. Сигнальщики объяснили Гальченко, что корабль — свой он или чужой — важно опознать именно на большом расстоянии. Ошибешься, промедлишь — и запросто схлопочешь торпеду или снаряд в борт!
Должен сделать один упрек в адрес Гальченко. Увлекшись обозрением «Сибирякова», новичок непростительно мало интересовался командой своего поста.