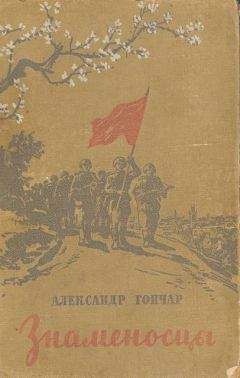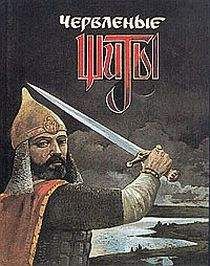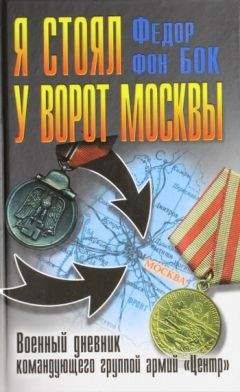Лавируя между тракторами и изувеченными машинами, не останавливаясь, не оглядываясь, втянув головы в плечи, будто ожидая выстрела в спину, они бежали в серые тихие сумерки поля.
Только слабенькая девочка, похожая в своих шароварах на лыжницу, остановилась, услышав голос Хомы, взглянула на него мгновенно выросшими большими глазами и припала к нему, забилась, затрепетала.
— Наши! — обессиленно заплакала девочка. — Наши, наши!
Хома бережно оторвал ее от себя и только сейчас, при свете пылающего сарая, заметил у нее на рукаве желтую нашивку с коротким словом: Ost.
Хома не знал значения этого чужого слова, но сразу почувствовал в нем что-то позорное, уродливое, как клеймо. Схватил нашивку, сорвал ее и гневно швырнул под ноги.
— Сестра! — волнуясь, сказал он. — Далеко ж я тебя встретил, сестра!
Девочка посмотрела на свой изодранный рукав, потом на Хому, потом опять на рукав. Глаза ее, еще полные дрожащих слез, вдруг наполнились ярким светом, и она закричала:
— Бронислава! Радомир! Ян!
Кое-кто из бежавших неуверенно начал оглядываться, потом останавливался и, заметив советского солдата, бросался к нему, как к защитнику. Через минуту Хому обступили люди и прижимались к нему, запыхавшиеся, возбужденные и растерянные.
Рабы, невольники… Истощенные, бледные, будто годами не видели солнца… В беретах, в фуражках, в кепках, простоволосые… Блестящими, как после болезни, глазами смотрели они на него со всех сторон. Говорили на разных языках, тянулись к нему руками. Перепуганные взгляды их находили опору в этом загорелом, обожженном стужами лице, в этой темной тугой шее, облитой сияньем близкого зарева. А Хома, веселый и радостный, поворачивался среди них своими широкими плечами, срывал с рукавов желтые нашивки и отбрасывал прочь.
— Отныне вы свободны!
— Свободны! — это слово повторялось на многих языках. — Свободны! Свободны!..
— Навсегда свободны!
У одного не было нашивки.
— Это француз, — объяснила Хоме землячка. — Мсье Жан… У них не было нашивок.
Старик француз закивал бородой, взволнованно залепетал:
— Же ву, же ву…
— Живу, говоришь? — Хаецкий приветливо хлопнул его по плечу. — Живи на здоровье, го-го-го!.. И больше не попадайся людоедам в лапы!
Невольники наперебой обращались к нему на разных языках. Хаецкий понимал далеко не все, но одно он постиг: это он вернул этим людям самое дорогое, самое прекрасное — жизнь и свободу. Сознание значительности этой минуты наполняло его счастливой гордостью. Это он дал им нынешний ветреный вечер и эти широкие дороги в родные края, и звонкий завтрашний день. Сегодня их несчастья должны были кончиться навсегда. Сколько людских надежд и мечтаний задохнулось бы дымом в этом сарае, погибло бы под пылающей крышей!.. Когда-нибудь комиссии и строгие эксперты откопали бы обугленные кости. Но разве откопаешь мысли, разве воскресишь мечты, нетерпеливо рвущиеся в окутанную сумерками даль, туда, где люди мысленно встречаются со своими семьями и друзьями, ласкают давно невиданных детей…
Освобожденные взволнованно, беспорядочно рассказывали о себе. Они работали недалеко отсюда, на нефтяных промыслах. Когда фронт неожиданно приблизился, немцы согнали их на станцию, устроив на скорую руку транзитный лагерь в этих сараях. Охрана лагеря ждала со дня на день вагонов, чтобы увезти невольников дальше на запад, на другие работы. Но когда события развернулись с молниеносной быстротой и стало ясно, что ни один вагон уже не выйдет за стрелку, рассвирепевшие эсэсовцы заперли барак на здоровенный замок и подожгли.
Среди освобожденных больше всего было чехов и поляков, несколько русских девушек и украинок, несколько французов и даже один араб, неизвестно где захваченный немцами. Услыхав про «арапа», Хома захотел непременно на него посмотреть. Все стали звать Моххамеда. Но он уже исчез, перемахнув через насыпь, в глухое поле.
— Скажите, куда же нам теперь? — спрашивали Хому девушки. Подолянин указал на восток широким властным жестом:
— Идите! До самого Владивостока путь вам открыт!
— Но ведь где-то должен быть комендант?
— Комендант? Я для вас комендант! Я вам говорю: топайте!
Девушки плакали. Достали свои паспорта и просили Хому сделать в них пометки. Это были страшные паспорта рабынь, изобретение новейшего рабовладельчества: «Arbeitskarte». В каждой карточке — фотография владелицы с большой деревянной табличкой на груди. На табличке — шестизначный номер. И тут же рядом — фиолетовый оттиск пальцев. Надписи повторялись на двенадцати языках: русском, украинском, чешском, английском, французском… Для всех народов были заготовлены арбайтскарты!
Хома не читал. Повернувшись к пылающему бараку, он огрызком толстого карандаша выдавливал через всю арбайтскарту: освобожден, освобождена, освобожден, освобождена…
Протянула карту и девочка, первой пришедшая в себя среди общей паники.
— Как тебя звать, сестричка? — спросил Хома, особенно старательно выводя на ее карте свою резолюцию.
— Зина, — ответила девочка.
— Кто ж тебя дома ждет? Мама? Папа?
— Нет никого. Всех растеряла за войну. Один брат где-то в армии…
— К кому же ты вернешься?
— Как к кому? К нам, домой. У меня сейчас там все родные!.. Как перейду границу, буду обнимать каждого, кого ни встречу…
— Какая ж ты худенькая, аж светишься…
Девочка заметно смутилась, словно в этом было для нее что-то постыдное.
— Поправлюсь… Наберусь сил…
— Набирайся, сестричка, набирайся… Счастливой тебе дороги!
Хома спешил, бой уже откатился за поселок, окутанный вечерними сумерками да багровыми заревами пожаров. У него не было времени расспросить Зину подробнее, он даже не узнал ее фамилию. А если бы спросил, она ответила бы: Сагайда.
Объяснив освобожденным, как им лучше всего выбраться за линию фронта, Хома кинулся разыскивать своих огневиков.
Он нашел их уже ночью на западной окраине. Гордый своим поступком, долго рассказывал товарищам о лагере, о землячках, о французах и «арапе», кинувшемся куда-то наобум, вслепую, так что не могли его дозваться.
— Где ни побегает, все равно к нашим придет, — рассуждали товарищи.
— Известное дело, придет… Все дороги к нашим ведут…
— А его, беднягу, наверное, где-то арабенята тоже высматривают, ждут…
— А почему же нет? Человек есть человек…
Сагайда, накрывшись плащ-палаткой, не вмешивался в разговор, сидел задумчивый и молчаливый. Сестра Зина не выходила из головы. «Освобождаем же мы многих, — думал он, — может быть, в эту минуту кто-нибудь освобождает и мою сестричку, мою Зинку».
Долго еще потом шли по Австрии и почти во всех деревнях встречали своих земляков и землячек, работавших у бюргеров. Девчата рассказывали, как добрели толстые бюргерши по мере приближения советских войск.
— Когда вы были на Тиссе, моя хозяйка перестала драться и дала мне платье. Когда стали на Мораве, она прибавила мне кружку кофе. А когда вы вступили в Австрию, так начала угощать вином…
— Где она сейчас, старая волчица?
— Бросила все хозяйство и спряталась где-то в бункере.
— А ты отсюда домой попадешь?
— С закрытыми глазами!
— И не заблудишься?
— Нет.
Сагайда, встречая освобожденных девушек, жадно вглядывался в их лица, надеясь встретить среди них сестру, свою щебетунью Зинку, звонкое свое счастьечко.
А оно, его счастьечко, в это время мелко стучало каблуками по пыльным шляхам на восток, вдоль дорфов и бункеров, и вглядывалось из-под косынки в каждого встречного военного, стараясь найти среди них своего Володьку.
Для нее здесь все были, как братья, а для него там все были, как сестры.
В свободные часы Хома со своими ездовыми разбирал положение на фронтах. Для этого он доставал из полевой сумки пачку самых различных карт, вырванных из чужих атласов и учебников. Обложившись ими и потирая руки точь в точь, как начальник штаба, Хома говорил:
— А теперь, Иона, разберемся.
Иона-бессарабец пользовался особым вниманием Хомы. Подолянин твердо помнил, как, принимая новичка в ездовые, он поклялся сделать из него человека. И надо сказать, бессарабец оправдывал надежды своего учителя. Хозяйственный, работящий и когда надо на удивление храбрый, он выполнял свои обязанности безукоризненно.
А между тем Иона, как и Ягодка, был совсем темный человек. Пробатрачив полжизни в именьях румынских землевладельцев, он и сейчас еще не совсем свыкся с новым положением и в обществе «восточников» болезненно ощущал свою отсталость. Всякий раз, когда приходилось расписываться в боеснабжении за мины, его бросало в жар. Иона расписывался с большим трудом.
Поэтому обращение Хомы к нему звучало участливо и в то же время несколько комично. Разберемся… На это приглашение Хомы Иона поддавался довольно туго: сам дракула31 не разберется в тех картах, где уж ему, Ионе, со своим батогом! Действительно, отпечатанные в разное время и на разных языках — немецком, венгерском, румынском, — эти карты представляли даже для Хомы темный лес. Однако Хома, откусив зубами соломинку, дерзко пускался в этот лес, измеряя масштабы до Берлина. С какого-то момента измерение расстояния до Берлина утратило шутливый оттенок и воспринималось вполне серьезно.