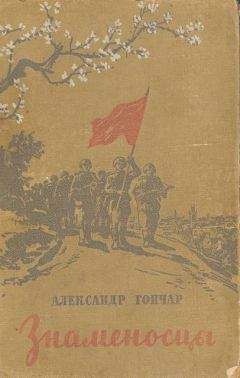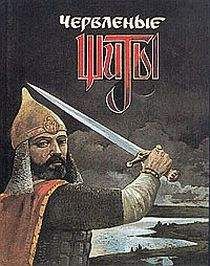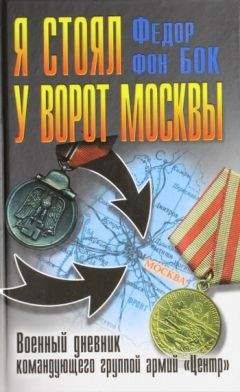— Садись на готовое и смотри не отпусти гайку, — поучал Сагайда Маркевича, передавая ему взвод. — С такими гренадерами тебе и море по колено. А я не гонюсь за легким хлебом, пойду на первый, к молодым гражданам.
— Я тоже не ищу легкого хлеба, — обиженно заметил на это Маркевич.
— Не ищешь, согласен, но если дают — бери. Потому что так нужно. Значит, считают, что мой хребет крепче твоего. Тебе, видишь, прогалину Черныш выделил, а я должен лес корчевать.
— Могу вам помочь, — предложил Маркевич.
— Если можешь — давай, быстрее разделаемся.
На том и сошлись. Сейчас бойцы обоих взводов дружно наступали на дубняк. Сагайда, раскрасневшись, тоже носился с топором по огневой и молодецки набрасывался на деревья.
А на склоне холма все глубже зарывались в землю ординарцы, телефонисты, наблюдатели соседних батарей. Даже Маковейчик, который всегда избегал земляных работ, сегодня натер себе честные мозоли. Конечно, вместо того, чтобы копаться в этой тяжелой австрийской земле, парень с бо́льшим удовольствием прошелся бы на руках по огневой, поборолся с товарищами, или, закинув голову, махнул бы в весенний лес, который высится рядом. Как там должно быть прекрасно! Озера, птицы, песни!.. Гудит весна в лесу, заглядывает в тесный, пронизанный сыростью окоп Маковея, зовет-вызывает: бросай лопату, хлопец, выпорхни из своей норы на свет божий, махнем степями-лесами! Покажу тебе свои чудеса, напою тебя березовым соком, улыбнусь тебе синими подснежниками!..
— Прочь, не мешай мне! — кричит Маковей соседу-связисту, который напрашивается к нему в напарники. — Дай-ка развернуться!
— Да ты уж и так вымахал по грудь…
— А что же! Может, я последний окоп рою, для истории его оставлю!
— Давай на пару…
— А этого не хотел? Ишь какой ласый на дурняк! Видишь мои мозоли?
— Вижу… Тоже исторические?
— Тоже!
В это время с КП батальона, запыхавшись, прибежал Шовкун. Лишь только он влетел на огневую, как все поняли, что сейчас услышат радостную новость. Она светилась в теплом, размякшем взгляде санитара.
— Ясногорская вернулась! — крикнул Шовкун, сияя, — Уже в тылах батальона… Сегодня будет здесь!
Ясногорская! Шовкун кричал всей роте, а смотрел почему-то на Черныша. И все бойцы, как сговорившись, посмотрели на Черныша. Лейтенант покраснел и, хмурясь, бросил офицерам:
— Пошли пристреливаться.
Забравшись с командирами рот на вершину холма перед огневой, Черныш терпеливо вел пристрелку. Как всегда в таких случаях, бил только один миномет. Сегодня честь пристреливать цель выпала расчету Дениса Блаженко. Стоя внизу и держа в руке дефицитную дымовую мину, Блаженко смотрел оттуда на офицеров так, словно ждал сигнала вызвать землетрясение. Но Черныш не спешил с командами. После каждого выстрела наступала длинная пауза — офицеры, не торопясь, разглядывали цель, советовались, вели подсчеты.
День стоял ясный, прозрачный, с далекой видимостью. Трепетный воздух мягко струился, как бы подмывая своими волнистыми потоками высоты на том берегу, блиндажи, далекие деревья. Все плыло куда-то и в то же время оставалось на месте. Фронт притих, как перед бурей, лишь изредка кое-где лениво ухали пушки. Черныш знал, что завтра они заговорят иначе, — сегодня артиллерия еще только примеряется, работая с притворной бессистемностью и скупостью, чтобы не вызвать подозрений противника.
Все мысли Черныша сейчас невольно связывались с Ясногорской, все, что он делал, уже как будто посвящалось ей. Наверное, Шура и не догадывается, как ее приезд отражается на чьей-то деятельности, на чьих-то настроениях… Вернулась!.. Неужели она и в самом деле с часу на час может появиться здесь? Иногда Чернышу это казалось маловероятным. Когда выдавалась свободная минута, он нетерпеливо поглядывал с холма на дорогу, тянувшуюся вдоль леса к селу, в полковые и батальонные тылы. При этом каждый раз он смущался, подозревая, что соседи-офицеры догадываются, почему ему не сидится возле них. А они, озабоченные пристрелкой, не замечали его волнения.
Дорога, которой должна была приехать Ясногорская, жила нормальной фронтовой жизнью. В направлении передовой двигались группы бойцов; проскакал верхом начальник штаба с несколькими помощниками и ординарцами; выползла на опушку артиллерийская кухня, запряженная знаменитым верблюдом, одним на всю дивизию, который дошел сюда от самой Волги; вот из-за поворота вылетает на своем конике Хаецкий, за ним одна за другой вытягиваются повозки, груженные боеприпасами. Может быть, Шура приедет с ними? Но на повозках, кроме ездовых, никого нет. Что ж это такое? Где она так долго задержалась? Хома грозит кому-то плеткой, сбивает верблюда с дороги… Еще кто-то едет… А ее нет. Нет… Нет…
— Ну и печет, — жалуется Чернышу один из его товарищей, капитан Засядько, расстегивая воротник. — Сюда бы сейчас ведро пива-холоднячка!..
— Толстиков уже и без пива клюет, — улыбаясь, кивнул Черныш на своего правого соседа, который, уткнув голову в руки, упорно боролся с навалившейся дремотой.
Они только что кончили пристрелку и, удовлетворенные результатами, лежали втроем на верхушке холма, от нечего делать перебрасываясь вялыми фразами. Давала себя знать усталость последних дней. Не хотелось подниматься, трудно было даже повернуть разморенное теплой истомой тело. Солнце припекало. Воронки, еще утром жирно черневшие на поле, сейчас посерели, высохли. Черныш, положив голову на планшет, закрыл глаза…
— Прекрасная, — слышит он поблизости. «О ком это? Конечно, о ней. Сегодня все думают о ней, все ждут ее».
— Кто прекрасная, капитан?
— Позиция, говорю, прекрасная, — поясняет Засядько. — И до противника рукой подать, и укрыта хорошо…
— Да-да, прекрасная, — тихо соглашается Черныш, думая о Ясногорской. — Прекрасная… Прекрасная…
— Стоп! — капитан хлопнул себя рукой по шее. — Кажется, капнуло! Еще! И еще!.. Толстиков, проснись!
— Что такое?
— Дождь!
Офицеры, оживившись, как ребята, вытянули ладони перед собой, радостно глядя в небо. Высокие тучки были почти не заметны, таяли в бледной синеве. А между тем дождь усиливался, падая, казалось бы, с чистого неба: зашумел над лесом, приближался тысячным кристальным шорохом, легко позванивая в вышине.
Черныш лег навзничь, подставил обветренное лицо под приятные удары капель.
— Вы видели такое: солнце и дождь!
— Слепой дождь!
— Почему слепой? Наоборот, ясноглазый!..
Все гуще и гуще осыпало руки, лицо. От каждой капли радостная дрожь пробегала по всему телу. Уже вокруг, над лесом и над холмистыми полями, засверкали мириады блестящих жемчужных нитей. Словно небо, играя, весело стреляло бесчисленными тонкими очередями и каждая капля-пуля, проносясь в этой очереди, сверкала, слепя глаза. Чернышу казалось, что после этого весеннего дождя все сразу буйно зазеленеет, зацветет. Припомнил, как в прошлом году в Трансильвании, изнемогая в горах от зноя, бойцы с жадностью высматривали тучи… Реки остались внизу, ручейки остались внизу… Воды, воды! А небо было безводным, жестоко-голубым. Потом однажды показалась на горизонте дождевая туча. Будто сама Родина, услышав мольбы бойцов, посылала им издалека свой подарок. Расстелив на горячих камнях плащ-палатки, бойцы собирали в них долгожданную влагу. Потом делили. Черныш поделился с Брянским… Какой это был животворящий, незабываемый напиток!
Дождь усиливался. Никто и не думал прятаться от него. Слышно было, как на огневой щебетал Маковейчик:
Дождик, дождик, припусти,
На бабины капусты,
На дедово сено,
Чтоб позеленело!..
— Маковей, где та капуста? Где то сено? Глянь, австрийская земля кругом!..
— Все равно, пусть и она зеленеет!..
Черныш, щурясь, улыбался щедрому небу. Гадал, где застанет этот дождь Ясногорскую: в санроте или по дороге сюда… А она в это время уже соскочила с коня на его огневой. Ординарец комбата, гоня своему хозяину «порожняком» оседланного коня, по пути прихватил Ясногорскую.
Весь мир засиял. Солнце светило сквозь серебристую мглу, дождь становился мельче, гуще. Вдруг небо над головой заиграло. Мелодично, сильно, свежо. Впервые в этом году загремел гром. Как будто заговорили где-то высоко за голубыми тучами дивизионы ЭРЭС. Раскатилось, разлеглось — широко, привольно… И сразу всей природе вздохнулось легче, будто мир обновился, помолодел. Наверно, не было в эту минуту в войсках ни одного человека, который не взглянул бы зачарованно в разбуженное синее небо и не подумал: «Весна!»
«Весна», — с наслаждением подумал и Черныш, вдыхая посвежевший воздух. Но что это? Вздрогнув, он порывисто поднялся на колени. С огневой, вместе с радостной разноголосицей солдатских басов, неожиданно донесся девичий голос.