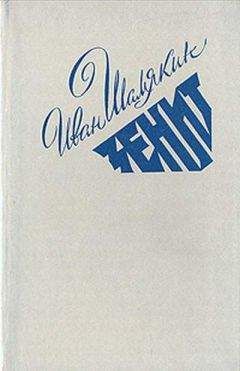Прокручивал «фильм» дороги.
Нельзя забыть те синие сумерки. Стояли на глухом лесном разъезде. Правда, сосны были вдоль дороги вырублены — оккупанты боялись партизан.
Кузаев неожиданно сказал в проходе вагона, где стояло много офицеров:
«А ну, Шиянок, сбегай в теплушки, объяви, что едем на Первый Белорусский».
«Серьезно?»
«Смотри-ка, он не верит командиру».
«Нет, правда можно объявить?»
«Забыл устав, комсорг?»
«Слушаюсь, товарищ майор».
Бросился в первую теплушку — девичью:
«Товарищи! Едем на Первый Белорусский!»
Девчата протяжно запели: «Ура-а-а!» Как на параде. Им так хотелось хотя бы в конце войны очутиться на передней линии главного направления — берлинского.
Славные вы мои девчатки! Какие трудности вы только не переносили! А сколько унижений от всяких унярхов! Но ничто не ослабило вашей жажды боя, мести врагу. Сурово промолчали на мое сообщение одни деды. Да я не осуждал их: они думают о сыновьях и девчатах этих, дочерях своих.
Вспомнилось и приятное, и неприятное. Но неприятное тут же как бы растворялось в золоте ласковых лучей утреннего солнца, в настроении моем — умиротворенном, созданном утром и тишиной.
Сладко спал Колбенко. Смешно посвистывал в нос Кумков. За стеной начальник артобеспечения Савинец говорил во сне, он каждую ночь рассказывал про снаряды, над ним смеялись: секреты выдаешь.
Вагон общий, купе открытые. Но мы их переоборудовали: завесили палатками, и каждые четыре человека получили свой уголок. Командирское, или, как его начали называть, «семейное», купе Кузаевых и Муравьевых отгородили фанерой. Но в перегородке была низенькая дверца, и дети, Анечка и Валя, гуляли по всему вагону, гостили в каждом купе, создавая особый, совсем не военный, психологический микроклимат. Дети вынуждали нас подтянуться: ни соленых анекдотов, ни брани, ни ссор. А главное — любовь к детям делала нас благороднее, как-то объединяла офицеров. Правда, нашелся недоброхот — пустил слух, что где-то, скорее всего на государственной границе, гражданских жен и детей с военных эшелонов снимают. Испугалась горемыка Мария Алексеевна. Притихли дети. А мы, серьезные люди, как заговорщики, выискивали способы провезти их, спрятать, если и вправду снимают. Втянули в заговор даже Кузаева. Договорились: женщин одеть в военное, детей спрятать под нарами в девичьей теплушке. Парадокс: рвались на фронт и не могли расстаться с детьми. А куда их девать?
Между офицерским вагоном и девичьими теплушками даже шла настоящая война за детей. Девчата на долгих остановках буквально выкрадывали Анечку. А той игра нравилась. С матерью едва сердечный приступ не случился, когда ее спрятали в теплушке первый раз: состав двинул дальше, а малышки нет.
Как можно спать при таком солнце?! Расслабились, разленились, как говорит Тужников.
Тихонько слез я с полки, взял сапоги и портянки — обуюсь в проходе. Вышел туда. А замполит в полной форме уже в одиночестве у окна. Не спится человеку. Каждое утро поднимается первым. Колбенко шутил: мучается майор от невозможности скомандовать нам «Подъем!». Не будь Кузаевых и детей Муравьева, наверное, поднимал бы аккуратно в шесть, как в казарме. Тужников слышал это и — вот диво! — снисходительно улыбался, повторяя давнюю шутку: «Пять кацапов не выдумают такого, что один хохол».
Я смутился: босой перед начальником в полной форме.
— Простите, товарищ майор.
— Ша! Обувайся.
Прислонившись к стене, я ловко намотал портянки.
— Весна, Шиянок. — Что?
— Весна, говорю.
В одном сапоге я повернулся к окну. Там, в купе, окне было наполовину завешено полотенцами, да и не смотрел я на землю — сразу в небо. А тут глянул — и радостно ухнул. Хотя перед нами блестели рельсы — несколько запасных путей, отчего стало ясно — немаленькая станция, — ничто, ни здания, ни аллеи, не заслоняло широкого простора поля. А оно — голое, без снега, только ближние полосы озимых были не зеленые, а серебряные — от ночного инея.
«Действительно весна», — удивился я. Вчера вечером стояли в Лиде и вокруг лежал снег, разрыхленный оттепелью, почерневший, но довольно еще глубокий. Я ходил по городу. После городов на ленинградской, новгородской земле, после Полоцка и Молодечно он казался уцелевшим — работали парикмахерские, мелкие мастерские, даже торговали пивом. Но у меня болело сердце — название города напоминало Лиду.
Неужели за ночь мы проехали так далеко — из зимы в весну? Правда, впервые за всю дорогу не стояли на каждом разъезде; сквозь неспокойный сон слышал, как стучали колеса, качался, скрипел калека вагон.
— Где мы, товарищ майор?
— Не знаю.
— Не повернули нас на юг? — Это уже почти с тревогой. — Смотри, где восток. Солнце бьет с той стороны состава в окна.
— Мы на юг идем от Петрозаводска. — Тужников усмехнулся.
— От Полоцка — на юго-запад.
— Железная дорога — не стрела.
И тут перед нами появилась Ванда Жмур. В одной гимнастерке, без пилотки, непричесанная. Теплушка, где она командовала девичьим сборным войском, была по соседству со штабным вагоном. Из теплушки и вылетела ранняя пташка в погонах младшего лейтенанта, с орденом Отечественной войны на груди. В нашу сторону не глянула. Так пристально всматривалась вперед, с таким видом, словно там стоял кто-то необычный — не мать ли родная, которую она узнала, но не верила глазам своим. Вдруг Ванда опустилась на колени на мокрый гравий между путями, вытянула перед собой руки и припала лицом к земле.
— Что она делает? — ошарашенно спросил Тужников; девичьи неожиданности его всегда немного пугали.
— Целует землю.
— Целует землю?!
— Догадываюсь почему. Мы — в Польше.
Я понимал Ванду. Когда таким же утром мы очутились в Полоцке, мне вот так же хотелось припасть к заснеженной земле. Постеснялся — вокруг народ, станция была забита эшелонами. Ванде повезло. Мы — одни! И такая рань! И такое утро! Весеннее! Но у Тужникова гневно сверкнули глаза. Он сказал во весь голос, забыв, что рядом спят, сказал, осуждая меня:
— Иди скажи, чтобы не ломала комедию! А то она тебе молиться начнет. Молодая коммунистка! Вот оно, твое воспитание!.. Не ты ли рекомендовал ее?
Я. В члены партии. Кандидатом Ванда пробыла без малого год, не по-фронтовому, поскольку еще там, в корпусе, схватила выговор за пререкания с командиром — с преподавателем курсов. «Я с ним не пререкалась — по морде шлепнула». Но за что — и мне не объяснила. И на партбюро, когда снимали выговор, уклонилась от честного признания.
«Поспорили мы».
«По поводу чего?!»
«По национальному вопросу».
«Теоретик, — хмыкнул тогда Тужников. — Представляю спор, за который выговор записывают».
В члены партии Ванду приняли неделю назад здесь, в вагоне. Подобрели в дороге, ознаменовывая приближение к фронту. Да и она показала себя хорошим командиром целого девичьего взвода, человек тридцати, с которыми в дорожных условиях, пожалуй, не справился бы и офицер-мужчина. И вот молодая коммунистка, коленопреклоненная, целует землю и, кажется, не очень спешит подниматься. Чего доброго, действительно креститься начнет… Я не мог забыть историю с англичанами.
Сиганул из тамбура к ней, готовый подхватить — сделать вид, что она споткнулась на шпалах и я поднимаю.
— Прекрати спектакль! Выставилась перед эшелоном!.. Люди смеются.
Ванда глянула на меня, в глазах ее блестели слезы.
— Дурак! Я восемьдесят лет не была на этой земле.
— Спишь еще, бабуся? Или угорела? Восемьдесят лет!..
— Без фантазии ты человек, Павел.
Ванда поднялась. Крупицы гравия впились в колени, она не обтрясла их — заняты руки: в ладонях держала мокрый песок. В правой руке показала его мне.
— Моя земля!
— Объявляешь, как королева. Нашлась собственница! Сошла из теплушки мессия!..
— Павел! Я думала о тебе лучше. Есть платок? Дай. Я завяжу в него горстку земли, к которой притронулась впервые, и буду носить с собой… у сердца. Как талисман.
Я понимал Ванду. И меня растрогало ее целование земли и эта горстка гравия, которую она держала как хрупкое сокровище. Я сказал: «Прекрати спектакль!» Но мне не казалось это игрой, рассчитанной на публику, хотя знал, что играть Ванда умеет и любит; иногда трудно разобраться, где она серьезная, а где паясничает.
Из теплушек не выглянул ни один человек. И на путях пусто. Только на одном, у разбитых вагонов, стоявших в конце станции в тупике, ходил боец в тулупе: на крыше под камуфляжным чехлом — знакомый по очертаниям зенитный пулемет.
Вряд ли перед Тужниковым Ванда устраивала бы представление. Нет. Это зов сердца. Ее лихорадит от волнения. Конечно, не тепло, а мы в одних гимнастерках. Но говорит она, чуть ли не захлебываясь:
— Ты посмотри, что там!
— А что? Здание станции.