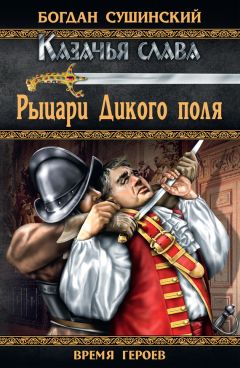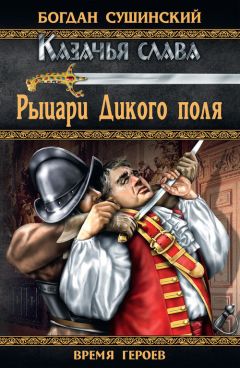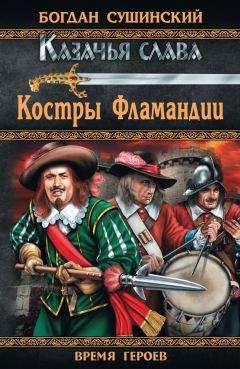– Но я не могу дать тебе войск. У меня их сейчас нет. Как нет и денег для того, чтобы сформировать армию. К тому же я не хочу объявлять воину Польше, нарушая заключенный между нами мир. Польша – могучее королевство. Зачем накликать его войска на нашу землю?
– Но мне нужно хотя бы пять-шесть тысяч! – почти взмолился Хмельницкий, понимая, что переговоры завершаются ничем. – Чтобы восставшие знали, что Крым с нами, и чтобы своей воинственностью ваши аскеры наводили ужас на польских ополченцев.
Хан промолчал. Сказано было довольно откровенно: казакам нужна хоть какая-то, хотя бы символическая поддержка. В то же время Ислам-Гирей понимал, что пусть даже символическое участие в войне с поляками на начальном ее этапе даст потом возможность двинуть на Речь Посполитую целую армию, преподнеся это своим крымчакам и Турции как «великий поход против неверных». И падут польские крепости. И потянутся в Крым обозы с добычей и пленными. И умолкнут враги престола, постоянно упрекающие его в нерешительности, в оскудении казны и в ослаблении государства.
К тому же он, Ислам-Гирей, напомнит всему миру, и прежде всего Польше и Турции, что с ним, как правителем, нельзя не считаться. Особенно если он выступает вместе с украинским казачеством.
– Нет, мои войска не пойдут с тобой, полковник. Войну Польше может объявить только Стамбул. Зачем накликать гнев сразу двух великих правителей – Польши и Турции?
Хмельницкий оценивающе взглянул на хана, как бы прикидывая, надолго ли хватит его упорства.
– Если вы дадите мне войска, мы вместе будем воевать против поляков. Если не дадите, вам придется сражаться против объединенной армии поляков и казаков. Вот грамота короля, – положил Хмельницкий на стол свиток, – которой король разрешает нам создать целый флот и собрать армию для войны с вами.
Хан читал и перечитывал грамоту, которую Хмельницкий когда-то похитил у полковника реестровых казаков Барабаша. Вначале разбирался сам, затем позвал переводчика…
– Я позволю тебе обратиться за помощью к перекопскому мурзе Тугай-бею, – наконец произнес он, удостоверившись, что грамота подлинная. – Непослушные мурзы-вассалы для того и существуют, чтобы время от времени спускать их с цепи, охлаждая тем самым воинственный пыл.
Хмельницкому хотелось улыбнуться, но он сдержался. Отношения между ханом и перекопским вассалом, постоянно тщившимся вести независимую от Бахчисарая политику, его не интересовали. Иное дело – само предложение хана. Королевская грамота все же подействовала, полковник не зря так рассчитывал на нее.
– Сможет ли Тугай-бей узнать о вашей воле раньше, чем я прибуду в Перекоп? – осторожно нащупывал он тропу в трясине этого странного разговора.
– Гонец – это уже приказ. Пусть Тугай-бей считает, что он сам принял решение об участии в походе против поляков.
«…От которого хан потом в любое время сможет отмежеваться, – растолковал про себя его тактику Хмельницкий. – Особенно, если окажется, что турецкому султану вся эта затея не понравилась».
– Ваша воля в этой стране – высший закон для подданных, – двусмысленно подытожил полковник.
– Разве мурза не будет знать, что в переговоры с ним вы вступили уже после переговоров в Бахчисарае? – едва заметно улыбнулся в ответ Ислам-Гирей.
Хмельницкий со всей возможной вежливостью поблагодарил хана и поднялся из-за стола.
– Официально король Владислав IV не отказался выплачивать мне дань, – счел хан необходимым объяснить свой отказ. – А если так, значит, нет и повода для войны. Дороги опасны, обозы с данью идут долго… – тоже поднялся он из-за стола. – Так что надо выждать, полковник. Если же и после того, как ваши воины вместе с аскерами Тугай-бея разобьют его первые полки, королевские послы не прибудут сюда с данью, вот тогда…
Хан не договорил. Его воинственная саркастическая ухмылка сказала Хмельницкому больше всяких слов.
– Я преклоняюсь перед вашей мудростью, великий хан, – сдержанно, с достоинством молвил Хмельницкий.
Полковник уже выходил из зала, когда Ислам-Гирей вдруг окликнул его.
– Мне сказали, что вы прибыли сюда с сыном.
Как ни готовился Хмельницкий к этому вопросу, но все же, услышав его, внутренне вздрогнул.
– С сыном, мудрейший. И с дарами, которые сегодня же…
– И это ваш единственный сын, полковник? – перебил его Ислам-Гирей, хотя при упоминании о дарах, которые Хмельницкий должен был бы преподнести еще до переговоров, глаза его загорелись.
– Единственный. Даже если бы у меня было десятеро, все равно каждый из них оставался бы единственным, – почти повторил он сказанное когда-то Тугай-беем.
– И сколько ему?
– Скоро будет шестнадцать весен.
– Время, когда каждый татарин стремится предстать перед своим родом истинным воином.
– Наши традиции очень похожи.
– Твой сын, полковник, останется у нас. Что ему делать в степи? Посмотрит наши горы, Бахчисарай. Изучит язык и обычаи. Пока ты станешь ханом Дикого поля, он станет первым женихом Бахчисарая. Самую красивую девушку Крыма подыщем, а?!
Хмельницкий угрюмо молчал, делая вид, что предложение оказалось совершенно неожиданным.
– Я взял его с собой именно для того, чтобы показать этот прекрасный край. Тем более что все равно с некоторых пор его домом стал военный лагерь.
– Помня, что твой сын здесь, полковник, ты будешь ревностно заботиться о нашей дружбе, – цинично поиграл желваками хан, удивляясь в душе, что Хмельницкий даже не пытается каким-то образом отговорить его от решения оставить сына в заложниках.
– Вы, как всегда, мудры в своих решениях, великий хан, – незло, обреченно признал полковник, откланиваясь и решительно уходя.
Королева знала, что графиня д’Оранж, ее служанки и камердинер давно покинули дворец, и теперь они оставались вдвоем во всем этом просторном, обставленном в парижском стиле особняке. Что придавало их встрече какой-то особый налет таинственности.
Когда Мария-Людовика вошла в холл, королевич уже с нетерпением ждал ее там, прохаживаясь между расположенными в разных концах зала мраморными статуями, словно выбирал место, на котором и самому можно было хоть на какое-то время застыть.
Одет он был, как перед дуэлью, – высокие черные ботфорты, кожаные, обтягивающие тело штаны с утолщенными серебряными наколенниками; кожаная, украшенная стальными пластинами, куртка с навешенным на нее нагрудным ромбовидным щитом…
«Что ж, будем считать, что вид у него довольно воинственный, – отметила про себя королева. – Знать бы, насколько он соответствует сути».
Правда, обрамленное короткой русой эспаньолкой лицо Яна-Казимира показалось ей основательно уставшим. Однако Мария-Людовика успокоила себя тем, что усталость эта налетная, след стараний графини, самозабвенно заботящейся о непорочности своей королевы.
Тридцать девять, со сладостной затаенностью вспомнила она о возрасте будущего короля и будущего, даст Бог, мужа. Прекрасный возраст! Особенно для такого рослого, крепкого мужчины, как этот.
– Вас не смутило, что я столь настойчиво добивалась встречи с вами, мессир?
– Раскаиваюсь, что не приложил еще больших усилий к тому, чтобы увидеться с вами. Сразу же, как только прибыл из Франции, – негромко, рокочуще невнятно, в нос себе, пробубнил Ян-Казимир.
– В этот раз мне придется простить вас, мессир, – едва просветлело лицо королевы, скрытое под сиреневой вуалью. – Но в будущем… Впрочем, давайте присядем.
На столике, накрытом в углу, между камином и настенным арсеналом из мечей, сабель и пистолетов, стояла бутылка французского вина и несколько блюдец с тонко нарезанными ломтиками жареного мяса и сыра.
– Наша встреча подразумевает значительно больше того, что мы можем высказать друг другу. – Королева еще не определилась, как она должна вести себя. Как невеста при живом муже? Как завтрашняя вдова, которая уже сегодня имеет право подумать о своем будущем? Как любовница, явившаяся на тайное свидание? Но ведь никаких особых чувств этот худощавый, с кирпично-багровым, обветренным в походах и попойках лицом воин у нее не вызывал. Тем более что любовник, причем «официально признанный», если позволено так выразиться, у нее был, и в другом она пока не нуждалась.
– Значительно, – все с той же невнятностью обронил кардинал-королевич. Когда он наполнял бокалы, рука его предательски дрожала, а глаза с жадностью оценивали напиток.
«После меланхоличного Владислава с этим человеком сойтись тебе будет очень трудно, – молвила себе Мария-Людовика. – Вообще трудно жить рядом с кем бы то ни было другим. Ты привыкла к покорности и невозмутимости своего короля. К его безразличию к тебе… Но ведь и после коронации Яна-Казимира послом Франции в Польше останется все тот же граф де Брежи…».
– Хотела бы знать… Вы в самом деле решительно настроены бороться за польскую корону? – Мария-Людовика понимала: стоит ей умолкнуть, и возобновить разговор в нужном русле уже будет трудновато. А она не желала отдавать инициативу поляку. – Поймите, для меня этот вопрос не праздный.