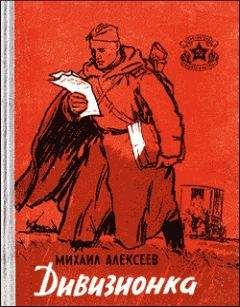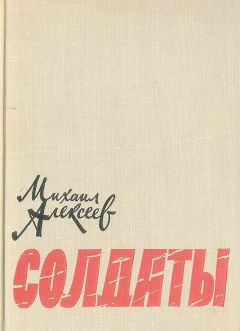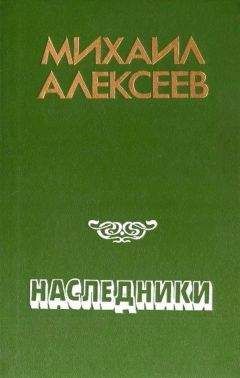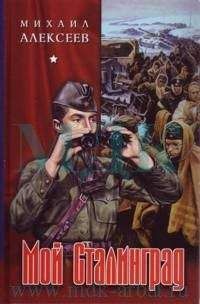Вызываю его к себе, спрашиваю, что заставило написать рапорт об уходе. Упрямо твердит:
— Хочу в стрелковую роту.
— А у нас разве тебе плохо, Максимыч?
Молчит. Стоит передо мною — руки вытянуты по швам, и только кончики пальцев чуть заметно вздрагивают, да из-под ушанки струйками сбегает пот.
— Ну что ж, Максимыч. Не стану тебя неволить. — Что-то горячее и сухое подкатило к горлу, заслонило дыхание.
— Разрешите иттить, товарищ старший лейтенант?..
Я молча кивнул.
Губы Максимыча покривились, дрогнули. Он силился что-то сказать и не мог. Неловко повернулся и пошел от меня, качаясь, как пьяный.
6
Долго я не видел Максимыча. За будничной суетой не смог даже выяснить, в какую роту его определили начальники. Но я очень хорошо чувствовал, что в моей роте будто не хватало какой-то очень важной пружинки. И трудно было угадать, в каком именно месте, где, в какой части, казалось бы, несложного ротного организма действовала раньше эта пружинка. Но то, что такая пружинка существовала и что она являлась важной, сомневаться не приходилось. То вроде беспричинно загрустят бойцы, то вдруг заболеет лошадь, то старшина накричит на солдат больше и громче обычного…
Всего этого почему-то не случалось раньше.
7
Последний раз я встретился с Максимычем при совершенно неожиданных обстоятельствах. Неожиданных и печальных.
Случилось это под вечер 5 июля 1943 года, в день немецкого наступления. Солнце стремительно и как бы с радостью уходило за горизонт: должно быть, оно вволю насмотрелось разного страху за этот кровавый день. Пыль и дым сражения медленно оседали на землю. Невеселую картину дополняли бесконечные вереницы санитаров, выносивших с поля боя раненых и убитых бойцов.
Я сидел возле своего НП и, пользуясь долгожданной передышкой, затягивался махорочным дымом. И вдруг услышал рядом с собой удивительно знакомый голос:
— Товарищ старший лейтенант… Товарищ старший лейтенант!..
— Максимыч!..
Он лежал на санитарных носилках, весь забинтованный. Открытыми оставались одни глаза, которые влажно светились. Свежие пятна крови проступали сквозь марлю. Дышал он тяжело, а ему, видно, очень хотелось поговорить со мной. Я наклонился над ним. Максимыч беспокойно заворочался на носилках, силясь приподняться. Но его удержали санитары. Тогда он заговорил:
— Вы меня… старого дуралея, простите, товарищ старший лейтенант. Не мог я оставить Никитку… сил моих не было. Не мог… Нарушил ваше распоряжение и привез мальца сюда…
— Ничего, Максимыч, не нужно об этом… Что ж, у тебя, верно, своих-то детишек не было?
Он долго молчал — видать, не хватало мочи. Потом трудно глотнул воздух и все же сказал:
— Как не быть… Есть. Шестеро… Самому младшенькому пятый, кажись, пошел годок…
Максимыча унесли.
А я еще долго сидел на прежнем месте, низко опустив голову. «Шестеро… Как же я мог не знать этого!..» В те минуты, может быть, впервые я по-настоящему понял, как сложна человеческая жизнь. Я поступил, конечно, правильно в отношении Никитки — тут едва ли можно убедить меня в обратном, — но этого, видимо, не понял Максимыч, мудрый наш Максимыч. Почему же?.. Не потому ли, что в своем сердце я не нашел тех редких и единственных слов, которые одни только и смогли бы обогреть, успокоить смятенную душу старого солдата? И я подумал: как же проницателен и чуток должен быть человек, коему дадено самое высокое и, может быть, самое трудное право на земле — право распоряжаться судьбой других людей.
С Максимычем я встретился в тот же день, как узнал о его возвращении от Алеши Лавриненко. И это была очень памятная встреча. А потом уж мы встречались часто — и до самого конца войны. Об его истории с Никиткой я рассказал на страницах нашей дивизионки. Разумеется, не столь подробно, как сейчас, — крохотный размер нашей газетки жестоко лимитировал, — но все же рассказал. Наверное, рассказал неплохо, потому что после этого и у Максимыча и у дивизионки прибавилось друзей.
Максимыч…
Это был еще один хороший человек, с которым породнилась дивизионка.
В судьбе нашей газеты совершенно особое место занимал Саша Крупицын — помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу. Он был как бы постоянным нашим шефом, любил дивизионку, ее сотрудников, сам часто писал заметки, а еще чаще «наводил» нас на след настоящих героев, по обыкновению всегда очень незаметных и скромных людей.
Гвардии капитан Александр Крупицын принадлежал к числу людей, без которых никак не обойтись на белом свете. Более того, нам иногда казалось, что без Саши Крупицына и сам-то белый свет не существовал бы, а если и существовал, то едва ли на нем было бы столько солнца, тепла и всякой другой благодати.
Вероятно мы, по извечной слабости всех влюбленных, малость преувеличивали, но одно было несомненно: ежели мир с грехом пополам как-то еще и обошелся бы без Крупицына, то наша «непромокаемая и непросыхаемая» дивизия никак уж не могла обойтись без Сашки. Подчиняясь суровым и грозным фронтовым законам, люди приходили в дивизию и уходили из нее; павшие в бою уходили навсегда, нередко не успев оставить хотя бы короткой памяти о себе; раненые возвращались, но не часто — гораздо чаще их направляли в другие соединения, даже на другие фронты. Словом, это было обычное кровообращение любого воинского организма, которому подвластны все, все, кроме тех немногих людей, которые как-то умудрялись не подчиняться этому закону.
Не подчинялся ему и Саша Крупицын — он был в дивизии всегда. И очень хорошо делал, что не подчинялся. Иначе в дивизии вдвое меньше было бы солдатских улыбок, крепких рукопожатий, задушевных бесед и добрых песен в землянках и блиндажах.
— Ты, Сашка, словно бог. Тебя ни одна пуля не берет, — говорили ему офицеры.
— Бог и есть, только комсомольский, — отшучивался Крупицын, набивая полевую сумку бланками комсомольских билетов (он готовился к очередному рейсу на передовую для вручения их принятым в ряды комсомола воинам).
Крупицын был человек веселый и даже озорной. Это понимал всякий, взглянув на его курносую физиономию, встретившись с его широко поставленными, какими-то дымчатыми глазами, коим вовсе противопоказано быть грустными.
И все-таки глаза эти бывали грустными и довольно часто — это после очередного боя, когда с передовой к нему возвращались недавно выданные им же самим билеты. В такие дни Саша надолго уединялся в своем блиндаже и так же, как его друг фотограф Валя Тихвинский, все перебирал и перебирал чуть вздрагивающими пальцами стального цвета книжечки, и ему даже казалось, что он чувствует теплоту рук их владельцев, тех, которым он, Крупицын, говорил свои горячие короткие речи, которых хлопал по плечу и которых уже никогда больше не увидит.
А к вечеру с неизменной полевой сумкой, вместе с Валькой Тихвинским вновь уходил на передовую, беседовал с комсоргами, учил их, может быть, самому трудному на земле: как с помощью нескольких нехитрых, немудрящих слов воспламенять людские сердца.
Занятый своими делами, молодой и в общем-то довольно беспечный, сам Крупицын, конечно, и не подозревал, что в дивизии к нему так все привыкли, что не мыслят даже существования этой дивизии без него.
Выдав комсомольский билет солдату, Крупицын уходил в другую роту и по дороге думал о том, как поведет себя солдат дальше. Может, пойдет к старшине роты, выпросит кусочек целлофана, бережно завернет новый комсомольский билет и еще долго будет держать его в горячих ладонях? Или приблизится к своему отделенному и тихо, пряча глаза, нетерпеливо спросит: «Скоро ли в наступление, товарищ гвардии сержант?» — и гвардии сержант немало удивится, услышав такое от своего самого застенчивого, самого незаметного доселе и даже робкого солдата? Или, сменившись с дежурства у накрытого плащ-палаткой пулемета, быстро вернется в блиндаж и, запыхавшийся от волнения, станет рассказывать своим товарищам о беседе с Крупицыным и о том, как тот сразу же распознал, что у него на душе? Или, забыв про все на свете, тут же примется строчить письмо своей Наденьке, извещая ее о том, что стал членом Ленинского комсомола?..
Вот ведь какие следы оставлял ты за собой в солдатских окопах, Саша Крупицын!
Однажды гвардии капитан Крупицын пришел к дивизионным разведчикам. Пришел в тот момент, когда они уже облачились в пятнистые маскхалаты и ожидали команды, чтобы отправиться в ночной поиск.
В этот поиск впервые уходил новенький по фамилии Филипчук, взятый в разведчики из стрелков.
Саша сообразил, что могло быть на душе у человека, впервые отправляющегося во вражеский стан, и, подойдя к Филипчуку, спросил:
— Комсомолец?
— Комсомолец, товарищ гвардии капитан.
— Билет старшине сдали?.. Не сдали?.. Где он у вас, покажите.