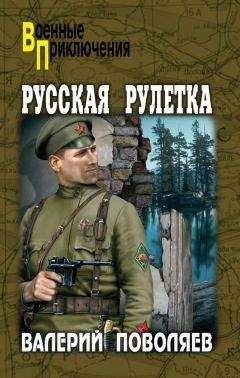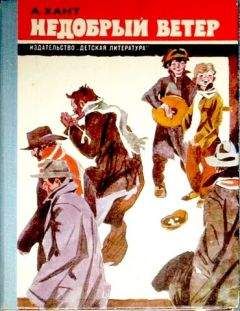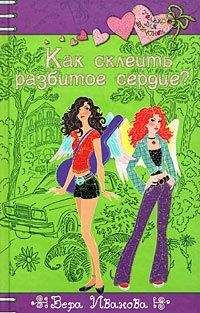— Очень жаль…
Чуриллов покинул ресторан, на улице огляделся. Человека, внимательно смотревшего на него, даже более — изучавшего, словно бы он хотел запечатлеть Чуриллова на листе бумаги в цепком подробном рисунке, он не заметил, скользнул взглядом по макушкам прозрачных деревьев, украшенных чёрными кляксами — ветки густо облепили молчаливые галки, — и пешком двинулся к Адмиралтейству, золочёный шпиль которого сиял над крышами и был виден очень далеко.
Да-а, он многого не понимает. Не понимает поэзию, литературу, революцию, нынешних людей.
Так же он не всегда мог понять и флот, на котором служил. Матросы в общем-то уважали его. И не потому, что он никогда не поднимал руку на нижнего чина, будучи капитаном второго ранга — были случаи, когда он, наоборот, заступался за матросов, окорачивая иного ретивого мичмана или зарвавшегося лейтенанта, — об этом корабельный люд тоже знал и тоже плюсовал Чуриллову, а ещё Чуриллов знал своё дело и был хорошим специалистом.
Впрочем, ему самому часто казалось, что дело он не знает, специалист из него плёвый, нулевой, он едва отличает клюз от клотика, а кандея от капитана, на одно только способен — с шиком носить сюртук, да на плечах золотые погоны, что для настоящего моряка очень мало! Стихи, которые он писал, Чурилллову также казались плохими, хотя издатели охотно брали их. Выпуская, на корешке обязательно тискали золотом его фамилию и имя, и гонорары платили хорошие. За стихи он получал куда больше, чем за свою службу на флоте, и надо бы бросить ему флот, раз море приносит столько разочарований, и он делал усилие над самим собой, стараясь порвать с флотом, и пугался, задаваясь одним вопросом: а что он будет делать без флота? Только писать стихи? Быть поэтом, читающим пустые стишки в кабаках под стеклянный звон бокалов, под плеск красного вина и шипение шампанского? Да он через месяц сопьётся и через два месяца сойдёт на нет. Как личность, как поэт, как морской офицер — он станет совсем никем, побирушкой, человеком из подворотни.
Такая перспектива пугала Чуриллова.
А главное, он не понимает Ольгу. Нынешний партнёр её — ни сожителем, ни женихом Чуриллов не мог его назвать, язык не поворачивался, — понятен, как карась, вытащенный из пруда на берег: понятно, почему он рот разевает на суше, почему щёлкает жаберными крышками и показывает любому желающему розовые рисунчатые пластинки жабер, похожие на диковинные водоросли, — всё про карася Шведова было понятно, а про Ольгу нет…
И сама Ольга, похоже, в беду вляпалась, и Чуриллова втянула туда же — чувствовал Чуриллов, что придётся им всем вместе в одном чугунке вариться, на кипятке общем плавать, лавровый лист да горошины перца изо рта выплёвывать — сварят из них революционеры и революция суп… Тьфу!
Тяжело, грустно было Чуриллову. И вообще, у него было такое ощущение, что Ольгу он никогда больше не увидит. Боль, возникшая внутри, заставила Чуриллова сгорбиться по-старчески, задохнуться воздухом — вошёл воздух в глотку и застрял там, разом отвердев, под сердцем что-то напряглось и лопнуло, будто туда вошла пуля, разодрала мышцы, ему сделалось ещё больнее, виски обожгло что-то горячее.
Хорошо что по пути попалась чугунная скамейка с одной-единственной доской, не оторванной от остова. Чуриллов кое-как доковылял до неё, сел — надо было отдышаться.
Почему-то люди, блестяще проявившие себя на фронте, не раз глядевшие в лицо смерти, в быту пасуют, уступают хамам, вообще оказываются несостоятельными тряпками, — безжалостное слово «тряпка» Чуриллов, не дрогнув, адресовал самому себе, — в результате проигрывают все сражения и оказываются никем.
Почему это происходит? Неужели суровый петроградский быт (да и кронштадтский тоже) более жесток, чем быт фронтовой или быт морских походов и стычек? Чуриллов согнулся на скамейке низко, совсем по-стариковски. Он хотел подумать об Ольге плохо, упрекнуть, бросить камень в её огород, но не смог — не так был скроен и тем более не так сшит.
Все его чувства к Ольге — утончённые, нежные, — это, в конце концов, обычная суета насекомого мужского рода и не более того, яйца выеденного эта суета не стоит. Как ни печально, но это — истина.
Что ждёт его завтра? А что ждёт завтра Ольгу? Ну, со Шведовым всё понятно — уложат где-нибудь в подворотне ударом ножа в шею или просекут пулей при очередном переходе через границу — явно ведь ходит он в Финляндию, как к себе домой… Шведова ждёт участь рядового заговорщика. Не хотелось бы, чтобы эта участь постигла Ольгу и самого Чуриллова.
Он просидел на скамейке ещё минут пятнадцать — приходил в себя, потом поднялся и двинулся к набережной Невы, по которой маршировали матросы — готовились к чему-то, то ли к годовщине приобретения Лениным новой кепки, то ли собирались отметить день, когда у Троцкого в его овечьей бородке появились волосы, которые потребовалось закрасить, в этом Чуриллов не разбирался.
И не хотел разбираться, вот ведь как.
Возвращаться в Кронштадт не хотелось, как не хотелось оставаться в Петрограде… Так как же быть?
Этого Чуриллов не знал.
Везение Шведова закончилось очень быстро.
За ним следили, его вели, и когда он пришёл на квартиру к Ольге, Алексеев решил на этой игре поставить точку. Шведов чувствовал себя раскованно, пребывал в хорошем настроении, выпил с Ольгой шампанского, возбудился от близости её — слишком доступной и, как всегда, желанной была она, — Шведов потянулся к её руке, поцеловал запястье, вздохнул тихо, влюбленно и поднялся со стула. Ольга тоже поднялась.
В следующий миг Шведов увидел то, что меньше всего ожидал увидеть, — фигуру кривоногого матроса, занявшую половину окна и, понимая, что сейчас произойдёт, оттолкнул от себя Ольгу и выдернул маузер.
Он опоздал с выстрелом, на сотую долю секунды опоздал — матрос выстрелил раньше. Шведова насквозь прожгло огнём, в него словно бы всадили раскалённый штырь, и он потерял сознание, свалился на пол.
Ольга убежать не успела, её арестовали вломившиеся в дверь чекисты.
Шведова отвезли в больницу, у дверей палаты поставили двух часовых — мало ли кому вздумается выкрасть раненого «клиента», ныне в Питере всякое может случиться, но за «клиентом» никто не пришёл. Через два дня Шведов умер. Не приходя в сознание.
— Весьма жаль, — задумчиво произнёс находившийся в это время в палате Алексеев, — этот господин мог бы нам очень многое рассказать.
Крестов, стоявший рядом, сдвинул бескозырку с затылка на нос.
— Не огорчайтесь, Сергей Сергеевич, другие расскажут…
— Рассказать-то расскажут, да не то, — Алексеев с неприязнью покосился на умершего. — Этот знал очень много, гораздо больше, чем знают другие… Может быть, даже вместе взятые.
Плыли тучи над Кронштадтом, плыли над Петроградом, ветер дул с Маркизовой лужи, гнал пороховую наволочь с запада на восток — и Кронштадт и Петроград были плотно завешены одними и теми же тучами.
Моросил мелкий, как пыль, дождик, было холодно.
Про «Петроградскую боевую организацию» в городе прослышали уже многие, слухи поползли разные: арестов было произведено несколько сотен, разные кумушки и бабушки передавали друг другу на ухо сведения о том, что происходило на Гороховой улице, в главной квартире чекистов, рассказывали о ночных криках, стонах, о том, что машины каждое утро увозят в неизвестном направлении тела замученных, из кузовов на асфальт капает кровь, помечает скорбный путь — последний для этих несчастных, а дворники потом с особой тщательностью отскрёбывают почерневшие пятна мётлами, огородными тяпками, кусками жести и совковыми лопатами.
Несмотря на то что арестов было произведено уже очень много, они продолжались — брали всех подряд, даже тех, кто к организации профессора Таганцева не имел никакого отношения, всех в каталажку, на нары, плотно набитые клопами, а уж потом — разбираться, что к чему…
Работа шла. Страшная это была работа.
В эти дни у Чуриллова пошли стихи — ну будто бы шлюз какой-то открылся, и полились, полились божественные строки, слова все были необыкновенные. Ах, какие рождались слова! Он ходил словно бы одурманенный своими стихами. Записывал их старым свинцовым карандашом в маленький блокнотик.
И вот какая вещь: если раньше строки давались мучительно, их десятки раз приходилось переписывать, блокнот от перемарываний становился таким, что в него уже не хотелось заглядывать, то сейчас строки шли чистые, рифма была законченной, отточенной, и так всё шло гладко, что Чуриллов только диву давался.
Он был опытным поэтом, понимал, что это нехорошо. Если строки даются с трудом, с потом, их приходится вырывать из себя клещами, а затем всё перемазывать, переписывать и перелицовывать, то слова тогда получаются будто отлитыми — тяжёлыми, убедительными, звонкими, каждое слово, как пуля, бывает опасным, а вот когда слова рождаются легко, то и полёт их — лёгкий, недолгий, слово ни в сердце, ни в памяти не застревает. Хуже нет когда пишется легко — Чуриллов не любил свои стихи, написанные сходу, почти не публиковал их, засовывал в стол, подальше в ящик, сверху придавливал другими бумагами, а когда издатели приставали, просили «что-нибудь новенькое», намекали, что стол-то небось забит по самую крышку, Чуриллов злился, сухое тёмное лицо его покрывалось крепким крестьянским румянцем, скулы, наоборот, бледнели, выделяясь необычайно светлыми точками, глаза делались гневными, но браниться в таких случаях он не бранился, держал себя в руках.