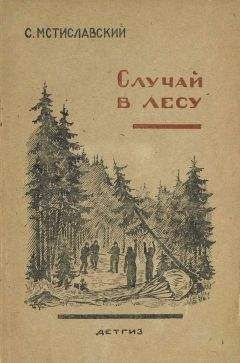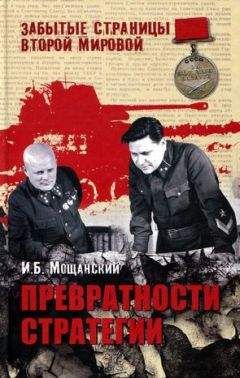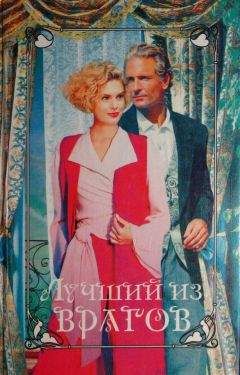Артиллерист предложил поселиться вместе, Дежнев согласился охотно – сказать по правде, он со своими однополчанами не всегда находил вне службы общий язык. Хорошие они были ребята, некоторые даже начитанные, взять того же Козловского – сколько стихов знает наизусть, страшное дело; но все же поговорить с ними так, как он, бывало, разговаривал с Игнатьевым, почему-то не получалось. Понятно, впрочем, почему! Они были моложе, с меньшим жизненным опытом, а главное – не привыкшие рассуждать на разные отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к войне, службе, женщинам. Сам Дежнев, приблизительно того же возраста, все чаще с досадой чувствовал, что у него этот обычный лейтенантский треп уже в печенках. Хотелось чего-то другого, хотя он прекрасно понимал, что время для этого «другого» настанет после войны, а сейчас надо просто воевать. Как говорится, не мудрствуя.
Поселившись вместе, Дежнев и Игнатьев общаться могли по вечерам. Днем оба были заняты по службе, это ведь только так называется – отдых, а на самом деле колготни на этом «отдыхе» больше, чем на передке в моменты затишья. Батальонные занятия, политбеседы, командирская учеба, проверки, инспекции, и всюду надо успеть, для всего выкроить время. У артиллеристов тем более, иптаповцы начали получать новую технику, противотанковые пушки БС-3 – чудища калибром 100 миллиметров со стволом шестиметровой длины, их надо было теперь срочно изучить и освоить.
– Да, нам бы в сорок первом такую матчасть, – заметил Дежнев, когда Игнатьев однажды рассказывал о новых орудиях. – А то, помню, «сорокапятки» эти, вот уж горе, сколько мы с ними намучались – их пехоте придадут, а везти не на чем, так вручную и катим.
– «Сорокапятка» не такая уж плохая была пушечка, – возразил Игнатьев, – зря ты на нее. Я бы вообще не сказал, что нас тогда матчасть подводила. С танками была беда, покуда «тридцатьчетверка» не появилась, и самолеты были никуда не годные, а в артиллерии – ничего подобного, мы немцев по всем статьям превосходили. Правда, нехватка снарядов резала... Но опять-таки – не потому, что не было их, от снарядов где-то в тылах склады ломились, а просто подвезти вовремя не умели или подвозили не те, что надо. Словом, обычный российский бардак.
– Это ты, Паша, верно заметил, бардак у нас продолжался аж до самого Сталинграда.
– Дольше, пожалуй. Собственно, только после Курска изменилось по-настоящему.
– Да-а, – задумчиво сказал Дежнев, – сейчас вспомнишь, как начинали, – не верится, что это та же самая армия, та же самая война...
– А война, если она долгая, обычно и не остается «той же самой». Каждый ее период не похож на предыдущие... А с тех пор, как мы перешли границу, – ты заметил? – вообще все как-то по-другому ощущается.
– Ясное дело, иначе и быть не могло. Когда твоя берет, все ощущается совсем иначе.
– Дело не только в том, что «наша берет»... Тут еще и другое: люди стали спокойнее, нет того озлобления, что было раньше, когда шли по Украине. Психологически это объяснимо, там все было слишком свое, слишком наболевшее...
– Да, там злости было больше, здесь все-таки чувствуешь себя как бы на нейтралке – вот мы, вот немцы, а земля вокруг какая-то и не своя, и не чужая. Поэтому и душой за нее не болеешь, не то чувство. Там – дома – увидишь деревню сожженную, – и сердце сжимается, а здесь тебя это не так затрагивает. Да и нет таких разрушений... Но там эта злость помогала воевать, так что кстати была.
– Помогала? – задумчиво переспросил Игнатьев. – Не знаю, не уверен. Злость помогает в рукопашном бою, там чем злее, тем лучше. А когда командуешь людьми, когда надо принимать решения – пусть самые простые, – тут не злость нужна, а хладнокровие, уменье владеть собой. Со злостью это как раз несовместимо, озлобленный человек невменяем. А у нас, к сожалению, с самого начала войны вся ставка была на злость. Никогда не забуду одного разговора... Весной сорок третьего – уже после харьковских боев – я возвращался из госпиталя, – и там мы в одном местечке застряли – распутица, ни пройти ни проехать, а был с нами один какой-то... то ли журналист военный, то ли политработник, я так и не понял. Словом, сидим мы с ним вдвоем в хате, у него водка была с собой, выпили, разговорились... Как раз в газетах было о том, что немцы под Харьковом захватили наш полевой госпиталь и перебили весь медперсонал. Я и говорю – вообще-то, не совсем понятно, зачем мы вооружаем наших врачей и медсестер, толку от этого никакого, а немцы свирепеют, поскольку по международным военным законам медперсонал не входит в категорию комбатантов и, значит, не имеет права носить оружие. А этот товарищ мне в ответ такую вещь сказал, что я до сих пор забыть не могу. Знаете, говорит, к тому, что рядом мужиков убивают, к этому солдат привык и обостренной ненависти к врагу это уже вызвать не может: ну что ж, война есть война. А вот когда он увидит изнасилованную санинструкторшу, которой еще и штык в живот всадили, – вот тут он на немца обозлится по-настоящему...
– Сволочь он был, твой журналист, – сказал Дежнев. – Что ж, выходит, мы нарочно это делаем, чтобы злость в людях вызывать?
– Не знаю, – Игнатьев пожал плечами. – Как говорится, за что купил, за то и продаю, а выводы делай сам.
Дежнев помолчал.
– А что, немецкие врачи оружия не носят?
– Нет, насколько мне известно.
– Вон оно что... Нет, ну наши-то я не думаю, чтобы нарочно! Другое дело – могли не подумать, не принять во внимание...
– Могли, конечно, – согласился Игнатьев. – А могли и подумать. Что мы делали ставку на разжигание ненависти к врагу любыми средствами, это факт...
– Да как же можно иначе? Чудак ты, Паша, кто же во время войны проповедует любовь к врагу?
– О «любви» речь и не идет, я другое хочу сказать. Во время войны ненависть к врагу возникает стихийно, как пожар. Для того, кто любит свою страну, всякий на эту страну посягнувший – враг и поэтому подлежит уничтожению. Это аксиома. А когда я читаю Эренбурга... впрочем, прости за риторический оборот, как раз его-то я не читаю; не хватает еще, чтобы мне – русскому офицеру – этот коммивояжер объяснял, как я должен любить Россию, какие немцы выродки и как их поэтому надо беспощадно истреблять. Да не нужны мне его объяснения! Я немцев истребляю потому, что они пришли на мою землю, пришли убивать моих соотечественников, и этого достаточно, а выродки они или нет – об этом я не думаю, я не имею права думать об этом, когда веду огонь. Если мне удалось поджечь «тигр», я не хочу думать о его экипаже. Это могут быть выродки, а могут быть и вполне приличные люди, которых призвали, обучили и отправили сюда – раздавить мою батарею или погибнуть самим...
– Ну хорошо, хорошо, – прервал Дежнев, – тебе, допустим, объяснения не нужны – ты интеллигент и сам разбираешься...
– Да при чем тут интеллигентность! Культура, что ли, делает человека патриотом?
– Я не в том смысле сказал, погоди. Согласен – дело не в интеллигентности, и все-таки – есть люди сознательные, а ведь есть несознательные, – что же у нас, дезертиров не было, что ли?
– А на дезертиров все эти словоизвержения не рассчитаны! Человек, который решил дезертировать, все равно сделает это при первой возможности. Среди них многие родную нашу Советскую власть ненавидят больше, чем немцев, они вообще не верят ни одному слову ни по радио, ни в газетах – их, что ли, перевоспитывать всеми этими «Науками ненависти»? На кого это рассчитано и на кого, к сожалению, действует – это основной контингент армии, наш среднестатистический русский Ваня... чьи отцы, деды и прапрадеды землю свою оборонять умели еще на Куликовом поле, и безо всяких подсказок!
– Ну, допустим, – сказал Дежнев, – излишнее усердие проявляют газетчики, их тоже можно понять – перышком скрипеть, оно ведь проще, чем по передку ползать, вот и отрабатывают. Беды-то в этом нет.
– Нет, есть беда! Если человека действительно научить ненавидеть – хотя бы это была и оправданная ненависть, пойми, – не знаю, сможет ли этот человек когда-нибудь вернуться к нормальному душевному состоянию. Есть болезни, которые бесследно не проходят, – вроде бы и выздоровел, а какой-то внутренний надлом в организме остался и рано или поздно обязательно проявится. А наш народ ненавидеть научился, в целом пропаганда действует – и чем грубее, чем примитивнее, тем более эффективно. Это закон. Мы-то с тобой можем знать цену всей этой ахинее... вроде «письма, найденного в кармане Курта Б., убитого в бою за населенный пункт А.»: «Дорогая женушка, посылаю для Эльзхен платьице, как раз впору для пяти лет, оно немного испачкано, но это ничего, кровь легко отстирывается»... или «записной книжки обер-лейтенанта Ганса В., найденной в блиндаже на Энском участке фронта»: «Вчера к нам привели красивую молодую женщину, у которой муж в Красной Армии, мы хорошо с ней позабавились, жаль, что потом пришлось пристрелить»...
– А я, например, цену этой «ахинее» не знаю, – запальчиво возразил Дежнев. – Ты думаешь, не могло быть таких случаев?