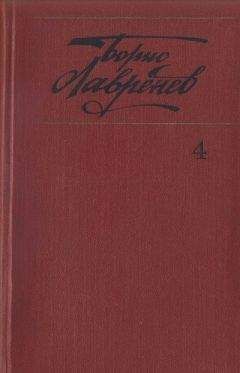Пары на «Светлане» подымались один раз в год, летом, когда из Петербурга приезжали ревизоры и инспектора речного судоходства. Тогда, отделанная пальмовым деревом и палисандром, изящная игрушка (министерство приобрело ее у кого-то из великих князей за карточный долг) оживала. Каюты ее наполнялись белыми сюртуками путейцев, фуражками с якорями, сигарным дымом, духами и женским смехом, а в трюм грузились ящики вина и тюки снеди. Закончив погрузку, яхта уходила в ответственный рейс от устья реки к порогам и обратно.
Но ревизоры ревизовали почему-то не береговые сооружения, дамбы и пристани, а самые уединенные, заросшие ивами островки. Инспектора интересовались не пароходами, а тихими заводями островков. Яхта подходила вплотную к пушистому зеленому ковру берега, и чины министерства отправлялись ревизовать остров. После таких ревизий на вытоптанной траве оставались объеденные индюшечьи ноги, рачья скорлупа, рыбьи скелеты и извергнутые ревизоровыми желудками подозрительные лужи. У берега тихо колыхались десятки пустых бутылок, как будто в шелковой воде заводи потерпела крушение огромная армада, побросавшая в роковой момент за борт бутылки с известием о катастрофе.
Однажды рыбаки, причалившие к месту такой ревизии, обнаружили в траве предмет, приведший их в изумление. В тончайшую, насквозь просвечивающую материю с разрезом посредине были продернуты розовые шелковые ленточки. Кружева паутиной свисали с концов предмета. Рыбаки разложили находку на траве, долго смотрели на нее, крякая и испуганно дотрагиваясь до материи чугунными пальцами. Один, утверждавший, что это рубашка, попытался напялить предмет на плечи, но туловище его провалилось в разрез, принятый за воротник. Он плюнул и бросил находку на землю. Ни к какому выводу рыбаки прийти не смогли, и даже жены, которым была доставлена находка, не сумели растолковать мужьям, что загадочный предмет представлял собой дамские панталоны того удобного фасона, который носил название «Je suis déjà madame»[14].
В полночь «Светлана» отходила от острова и полным ходом шла по реке, освещенная, как плавучий ресторан. В палисандровой кают-компании, на диванах и под столами, вповалку лежали ревизоры и дамы, а на мостике, расставив ноги, налитой алкоголем, но твердо державшийся, стоял Масельский.
На баке вполголоса матерящиеся матросы заряжали бронзовую салютную пушчонку, с остервенением забивая дуло паклей.
— Комендоры, не копаться! Лихо работай! — кричал Масельский.
— Есть, ваше высокоблагородие!.. — громко, — мать твою в погибель, — под сурдинку неслось с бака.
— По броненосцу «Миказа»… фугасными!.. Прицел-целик… Залп!
Пушка звонко лязгала, выбрасывая в ночь золотой сноп огня. Прибрежные села вздрагивали и, сквозь дрему, чутко прислушивались к катящемуся над водой грохоту. Матросы снова бросались заряжать.
Вдоволь настрелявшись, Масельский уходил в командирский салон, запирался и плакал едкими пьяными слезами о прекрасной флотской службе, навеки закрывшейся для него. Из-за чего он должен сидеть на дурацкой речной посудине и возить штатскую сволочь? Из-за чепухи! Из-за того, что в роковой день, спьяна, не разглядел, что высокопоставленная дама перешла уже за возраст, в котором можно было принять лейтенантское предложение всерьез, и сочла его за дерзкую насмешку. Будь она помоложе — лейтенант вряд ли пострадал бы: мало ли какие дела делались моряками с высокопоставленными дамами.
Роскошный поход «Светланы» кончался, кочегары выгребали жар из топок, и яхта снова нудно гнила у стенки, а Масельский просиживал ночи за винтом в благородном собрании.
Глеб всегда захаживал во время отпусков к Масельскому, и обиженный судьбой командир «Светланы» гостеприимно встречал гардемарина. Масельский много плавал, был в двух дальних кампаниях и прошел с цусимской эскадрой ее путь. Он охотно рассказывал Глебу анекдоты прошлого, найдя в нем дружелюбного слушателя.
Глеб застал Масельского на борту. Командир весело приветствовал гостя.
— Ба-ба-ба!.. Почти готовый адмирал… Команда во фронт! Встреча с захождением! Каким ветром? Я полагал, что вы носитесь по роскошным просторам Маркизовой лужи.
— Никак нет, господин лейтенант! Я плаваю у мамы в молочной реке с кисельными берегами. Хватит учебного отряда: я в отпуску. — Глеб всегда титуловал Масельского его бывшим званием, зная, что стареющему пьянице оно как струя меду.
Масельский подхватил Глеба под руку и увлек в салон.
— Как шикарно выглядим! Совсем мичман. Садитесь. Рому?.. Коньяку?
— Не могу отказаться. Коньяку.
— Тихон! — крикнул Масельский. — Бутылку нектара!
Вышколенный, как адмиральский вестовой, Тихон внес коньяк и нарезанный кружками лимон с сахарной пудрой. Масельский налил рюмки и чокнулся с Глебом.
— За три орла!..
— Чтоб наша их взяла, — весело ответил Глеб. Тост подразумевал адмиральские орлы на погонах.
— Что намерены делать дома, адмирал?
— Бездельничать, господин лейтенант. Вы можете роскошно помочь этому.
— Как? — спросил Масельский.
Глеб изложил дело.
— Берите, солнышко. Хоть саму «Светлану». По крайности, машинка прогреется, а то скоро и яхте и катеру геморройные шишки вырезать придется. Только не раскокайте катеришку.
— Ручаюсь, господин лейтенант.
— Я на всякий случай. Все-таки посудинка красного дерева. С кем отплываете?.. Одобряю. Был бы помоложе — навязался бы в компанию. Эх, девушки, девушки, бедовые головушки! — Масельский налил рюмки и хлопнул свою одним глотком. — Погулял и я в свое время. Не знаете, как Зиновей меня в тихоокеанском походе за девушек всей эскадре рекомендовал?
— Нет, — отрицательно повел головой Глеб.
— Это когда пришли мы в Носибей после трехмесячного мотанья по океану и нас из всех портов, как псину коростливую, гоняли. Ну, тут и дорвался я до берега. А дальше ни черта не помню. Очнулся на борту — башка трещит. Приходит Сашка Вырубов — потом погиб в бою, — запирает дверь. «Ну, натворил ты чудес, мосол!» А я только глазами хлопаю. И, оказывается, забрался я в казино, прихватил двух мулаточек, проваландался всю ночь, а утром забрали меня на главной улице. Слева мулаточка, справа мулаточка, обе в чем мать родила, а я почти в полной парадной, по голому пузу перевязь и сабля волочится…
Глеб хохотал, отвалившись в кресло.
— Да, — продолжал Масельский с заблестевшими глазами, — Рожественский осатанел, как десять тайфунов. Утром приносят приказ по отряду. Тридцать суток ареста и сенсация: «Мичмана Масельского рассматриваю не как офицера, а как свинью, опозорившую честь русского флота». Любил старик выражаться. А какая там честь, когда с начала похода ее уже не было, а после и вовсе обделались, с Зиновеем во главе. Так-то, молодой адмирал!..
— Теперь такой штуки не выкинете, — сказал Глеб, вытирая выступившие от хохота слезы.
— Скучный у вас, молодежи, флот стал. Генмор, стратегия, доктрина. «Жомини да Жомини, а о водке ни полслова». А Руси веселие пити. Хлопнем еще по одной, адмирал?
— Благодарю, господин лейтенант. Не стоит — жара. Значит, «Орленка» можно брать?
— Милости прошу. Куда вам его подать?
— Если позволите, завтра к десяти, к Воронцовскому спуску.
— Сделано! Захаживайте, милорд, кланяйтесь девушкам.
Глеб вышел за ворота двора линейной дистанции. Две рюмки коньяку разморили его и растревожили.
Путь домой лежал мимо особняка Неймана. Эти два дня Глеб не виделся с Миррой. Он призвал на помощь всю гардемаринскую выдержку, чтобы подавить желание встретиться с девушкой.
«В чем дело, наконец? Девчурка как девчурка… Смазливенькая… нет, это неподходящее слово — несомненно, хороша. Что называется — a pretty girl[15]. Но что я у нее потерял? И к чему может привести эта история? Вскружу ей голову, сам свернусь, а дальше? Как ни верти — все же она еврейка. Не станет же она креститься ради меня да и что это исправит?.. А скомпрометировать девушку и самому влипнуть в историю — благодарю покорно! Узнают в Петербурге — пойдут такие разговорчики…»
Глеба передернуло, когда он представил себе гардемаринские разговорчики по поводу такого неслыханного скандала, как роман гардемарина императорского российского флота с еврейкой.
— Ка-а-ак? — спросит, подымая брови кверху, Бантыш-Каменский, блюститель светских законов и этики, — ж-жидовка? C’est се qu’on appelle histoire![16] Что же вы станете делать, cher[17] Алябьев? По субботам ходить с вашей дамой сердца в синагогу и душиться чесночной эссенцией?
В представлении Бантыш-Каменского допустим роман гардемарина с самоедкой, готтентоткой — даже с козой. Это, по крайней мере, можно оправдать извращенностью, высшей утонченностью, желанием изведать бездну. Но еврейка?! Это shocking… inconvenable[18]. Это выбрасывает человека за черту порядочного общества. Это выжигается на лбу позорным клеймом.