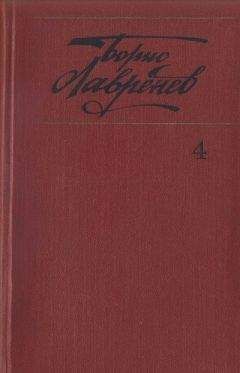— Я… я не могу, Глеб Николаевич!.. Если б… ха-ха-ха! Если б вы… ха-ха!.. знали… видели, на кого вы похожи!
— Вам смешно, — мрачно проворчал Глеб. — Проклятая Федоровна! Не могла найти никакого другого костюма… Черт знает что!.. Да не смотрите, ради аллаха, на меня.
Он отчаянно запахнул длиннейший и широчайший дьяконский чесучовый подрясник, которым наградила его Федоровна, взамен промоченного ливнем кителя, и попытался скрыться в тень дерева. Но волочащиеся по земле коломянковые штаны мешали ему двигаться, и он разъяренно заплясал на месте.
Черт знает какая история!.. Предстать перед девушкой, в которую влюблен (конечно, влюблен; что уж скрывать), в таком идиотском виде! Он нарочно ушел, переодевшись, в самую глубь сада, где рассчитывал спрятаться от всех, пока Федоровна не приведет в порядок изуродованный костюм. И все-таки Мирра нашла его.
«Нашла?.. Значит, искала? Значит, сама хотела встретиться?» Глеб вздохнул и взглянул на девушку.
Ведь вот хорошо женщинам! Что не надень — не будешь смешной. Даже в цветистом ситцевом капоте Федоровны, таком же широком, как проклятый подрясник, Мирра обаятельна, как всегда. А он? Ясно, что она хохочет.
— Не смущайтесь, Глеб Николаевич. Вы очень милы в этом наряде, — сказала Мирра, подымаясь с травы, подбирая полы капота, как бальный шлейф. — По-моему, вы в нем лучше, чем в форме. В кителе у вас слишком суровый вид, вы как будто закованы в белую броню. А так — совсем хорошо… Шальной мальчик!
Она села на скамью.
— Нарвите мне черешен… Какие огромные!
Глеб опять нарвал полные горсти черешен и, высыпав их на колени девушке, сел рядом.
— Кормите меня. Мне лень.
Глеб стал брать черешни за хвостики, поднося их ко рту девушки. Она мягко хватала их губами. Глеб начал дразнить ее, отдергивая руку. Он увлекся этой заманчивой игрой.
Сквозь листву на скамью лился апельсинный свет заката, трава свежо пахла росой, в ветках пронзительно кликушествовала какая-то птичка.
Потянувшись за черешней, Мирра прислонилась плечом к плечу Глеба. Сквозь ситец он ощутил его нежную теплоту и вспомнил, как легко лежало на его руках это тело, когда, проламывая шумящую стену дождя, он бежал к катеру. От этого воспоминания стало радостно.
Улыбаясь, он раскачивал в пальцах черешневую сережку над тянущимися к ней губами девушки. Губы были свежие и розовые, как черешня.
Черешня была соблазном для губ Мирры, — эти губы были соблазном для Глеба.
Черешня качалась все ближе над губами, голова Глеба клонилась к губам, как черешня. И, неожиданно, черешня вылетела из пальцев Глеба, а протянутые к ней губы столкнулись с губами гардемарина. Вскинувшиеся легкие руки легли на его шею теплым, желанным ярмом.
И настала золотая, тягучая, как мед, пьяная тишина…
Кто посмеет упрекнуть их за то, что настал их час? Что в волшебном саду воздух дышал неодолимыми соблазнами и что так было предначертано им?
Издалека звучали голоса:
— Глеб!.. Мирра!.. Где вы?
Но что значили для них в эту минуту чужие зовы и могли ли они услышать что-нибудь, кроме биения своих сердец?
Только майский жук, прогудевший, как самолет, и ткнувшийся со всего разлета в щеку Глеба, заставил их очнуться. Мирра высвободилась и вскочила. Глеб удержал ее за руку. Заглядывая снизу в опущенные глаза, он виновато сказал:
— Вы не сердитесь?
И тогда, вскинув ресницы, она сказала просто и ласково:
— Я ни о чем не жалею, Глеб… Пойдемте, нас ждут.
* * *
Вечером Глеб и Мирра уехали на пароходе в город. Оставаться в Канцуровке обоим не хотелось. После того, что было в саду, хотелось побыть вдвоем: шумное веселье не привлекало. Мирра сослалась на испуг во время ливня и головную боль. Глеб заявил, что, поскольку он виноват в утреннем происшествии, он считает своим долгом доставить Мирру Григорьевну домой.
Кроме того, несмотря на все старания Федоровны привести платье в прежний блеск, брюки Глеба ниже колен покрылись зелеными полосами от травы, а туфли совсем погибли, превратившись в бесформенные серо-черные лапти.
Возвращаться в таком состоянии в город днем было неприлично — вдруг наскочишь на какое-нибудь высокое начальство.
В радостном возбуждении Глеб не заметил неожиданного холодка, проявленного остальными девушками к нему и Мирре при прощании. Он вообще ничего не замечал, кроме Мирры.
Пароход был переполнен летней, фланирующей, нарядной публикой. Ни одного свободного места в каютах не было. Оставаться на палубе первого класса Глеб счел неудобным. Во-первых, Мирре нужно отдохнуть, во-вторых, в таких туфлях и брюках можно вызвать только насмешливую улыбку пассажиров. И Глеб, не медля, направился на капитанский мостик — просить разрешения провести там полтора часа, остававшихся до города.
Капитан не только разрешил, но и любезно предложил даме воспользоваться его каютой. Мирра ушла в каюту, а Глеб взял парусиновое кресло и устроился на наветренном борту, над колесным кожухом.
Ночной простор реки дымился туманом, на высоком правом берегу тускло мерцали огни селений. Гулко шлепая плицами, пароход бежал вниз по течению. У цветных глазков фарватерных вех, на отмелях сонно темнели выплывшие на ночной лов рыбачьи лодки. Пологая волна, вздымаемая пароходом, медленно и долго раскачивала их с мягким плеском.
Разлегшись в кресле, Глеб курил. В голове вертелась шумная, безостановочная карусель мыслей. От них было смутно и трудно. Глеб не привык много думать. До этого приезда в отпуск, до сегодняшнего дня жизнь протекала так просто, по такой налаженной колее, что сомненьям и раздумьям в ней просто не находилось места. Все совершается само собой. Ежегодно нужно сдавать экзамены в корпусе, летом плавать на «Авроре», драить медяшку, вязать койки, по тревоге бежать к орудию № 5 и подавать гильзу, уничтожать сытную гардемаринскую пищу, уметь шикарно носить форменку, лихо отдавать честь, уметь рассказывать десяток-другой свежих анекдотов, беззаботно гулять на берегу, в меру выпить, чтобы не заметил при возвращении вахтенный начальник, и со светской небрежностью тратить на всяческие развлечения ежемесячно присылаемые из дому сто рублей.
В этом была несложная житейская мудрость, смысл всей философии нормального гардемарина. Это безмятежное прозябание должно было по истечении определенного срока привести к мичманским погонам и открыть путь к дальнейшему благополучию, прекрасной служебной карьере и связанным с нею благам и почестям, установленным законами империи.
Вдруг все это так мгновенно и нежданно осложнилось, перевернулось.
Оказывается, существуют за пределами этой налаженной жизни такие сложные и мучительные вопросы, от которых начинает трещать и лопаться гардемаринское благополучие и гардемаринская голова.
И их, очевидно, много — таких тревожных вопросов. До сих пор просто некогда было замечать их, или они стояли далеко за пределами гардемаринского существования. Хотя бы сегодняшний урок — утренний разговор с Миррой до ливня.
Разве вчера еще могло прийти в голову, что существует огромный вопрос национальности, расовых различий, кем-то воздвигнутых перегородок между людьми? А теперь ясно, что не только существует, но и изобилует острыми и трагическими положениями. Наверно, есть и другие серьезные проблемы.
Ах, всего день назад он был вольной птицей! Лети, куда хочешь, дыши прекрасной молодой свободой. И в какое-нибудь мгновение все переменилось. Теплые руки, легшие на его шею, покорно ответившие на его поцелуй губы, и вот уже обязанность… долг. Это заставляет думать о будущем иначе, чем думалось до сих пор. Что же делать?
Глеб сердитым размахом швырнул папиросу за борт. Вздохнул. Вздох был грустный и счастливый одновременно. С одной стороны, разве не счастье любовь такой чудесной девушки? Ею может гордиться любой. Умна, прелестна, привлекательна, прекрасно себя держит.
А с другой стороны, что же будет дальше?
То, что происходит с ним сейчас, совсем не похоже на прежние увлечения, когда поцелуи расценивались как легкая шалость, удовольствие, вроде варенья к чаю. Ну, поцеловались — и поцеловались. Даже если дело заходило дальше — никаких особых затруднений не возникало.
Ведь по утверждению гардемарина Янышева, прославленного теоретика любовной науки, поцелуи — то же, что ордена. Обилие их украшает репутацию, как ордена украшают мундир.
Но янышевская наука была явно порочна на этот раз. Разве возможно применять ее цинические выводы к такой девушке, как Мирра?
Глеб даже привскочил в кресле от негодования… «Что? Мирра? Мирра — единственная!» Давно же ясно, что Мирра не похожа на других женщин и девушек. В воспаленном воображении Глеба Мирра высилась над женским населением земного шара, как нью-йоркская статуя Свободы над заливом.