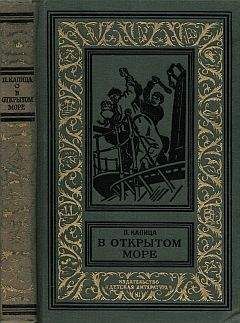Стронский, поскрипывая половицами, прошел несколько раз по комнате взад и вперед, приподнял шторку и внимательно, будто это его больше всего интересовало, наблюдал, как двое мальчишек в бешметах с позументами привязывали к хвосту шелудивого пса консервную банку. Высунулся в окно, зло покричал на мальчишек, и они стремглав разлетелись в стороны.
– Люди, мучающие животных, не могут быть хорошими людьми, – про себя, будто припомнив к случаю давно известное ему изречение, сказал Стронский и обратился ко мне: – Командование поручает вам ответственное задание, оно больше государственное, чем военное. Возвращение в дивизию придется отложить. А там – как развернутся события… Во всяком случае, мы не можем продолжать поход, пока у нас остается сомнительным важный участок нашего тыла.
Стронский, изложив мне смысл поручаемого задания, ждал ответа. Я сказал, что мне трудно выполнить это поручение, пока один из членов нашей семьи находится у немцев, и рассказал об Анюте.
Стронский сел у стола, наклонил голову, положил локти на стол. Своими худыми с синими наколками татуировки руками охватил голову.
– У меня, знаете ли, еще с того дня, как артиллерия генерала Еременко начала обработку Керченских позиций на прорыв, почему-то ужасно болит голова, – сказал он, поморщился и, вытащив из кармана кителя плоскую коробочку, положил в рот пилюлю. – Мне известно все. Вот здесь до твоего прихода сидел твой отец, пожилой, именно пожилой, а не старый, умный, упорный, советский человек. Он говорил то же, что и ты, Сергей. Его и тебя мучает одна и та же рана, и напрасно вы таили друг от друга свои общие сомнения и горе. Дело идет о чести вашей хорошей советской семьи… Знай только, что мы доверяем тебе и будем доверять… А чтобы ты… – Остро отточенный карандаш побежал по бумаге блокнота. – А насчет сестры… чтобы ты кое-что понял… – Стронский, написав записку, передал мне. – Для хорошо известного тебе Михал Михалыча. Покатаешься с ним на катерах, а затем вернешься сюда, в распоряжение генерала Градова, который приедет сюда после освобождения Севастополя…
Глава семнадцатая
Огни Херсонеса
Михал Михалыча я нашел у разбитого евпаторийского пирса, где стояла борт о борт пятерка торпедных катеров, похожих издали на обычные рыбачьи баркасы.
Несколько морских офицеров стреляли из пистолетов по качавшимся на волне бутылкам из-под шампанского – остаткам немецкого господства.
Увлеченный стрельбой, Михал Михалыч не обратил на меня внимания. Вот он согнул левую руку в локте, приспособил ее, как опору, прицелился, сделал подряд два выстрела. Головка бутылки разлетелась с треском, и, булькнув, бутылка затонула.
И только тут Михал Михалыч заметил меня.
– Ба! – воскликнул он. – Метаморфоза! Лагунов! Как же ты, мил друг, так быстро в чинах выскочил! Э-ге-гей! Гвардии майор? Ломаю, ломаю свою просоленную и просмоленную фуражку… – Он познакомил меня со своими командирами. – Это Кастелянц, высокого класса храбрец, это Тимур, это любимец Совинформбюро Хабаров… Но стрелять из пистолета не умеют. Что не умеют, то не умеют… – Михал Михалыч взял меня под руку. – Звонил мне Стронский, не ожидал и был обрадован. А тебя поджидаю просто в гости… Пойдем-ка в нашу кают-компанию.
Кают-компанией Михал Михалыч, оказывается, называл яму от крупной авиабомбы, очень точно сброшенной нашими пилотами. В яме был насыпан грызовой подсолнух из приткнутого у берега полусгоревшего сейнера.
На семечки мы и прилегли. Михал Михалыч запустил руки в семечки по локоть, расспросил меня о партизанской жизни, полюбопытствовал о судьбе Мариулы:
– Хорошо работала? А что ты думаешь? Честная деваха, преданная. Это мы так по старинке смотрим: цыганка, цыганка, сплошная экзотика. А Кириллова повстречала она своего?
– Повстречала. Только не Кириллова, а Гаврилова.
– Не знаю, кто он: Гаврилов, Кириллов, Петров, Иванов. А раз встретила – и ладно, пусть жизнь устраивают…
– Что делаете, Михал Михалыч?
– Рыщем на коммуникациях. Сегодня до утра рыскали, приглушали моторы, прислушивались, вернулись ни с чем. Комбриг уже дважды по радио благословил.
– Как переносите?
– Пойду переболею в кутке, покусаю себе ногти. А что еще?
– Нехорошо у нас получилось, – сказал Хабаров, командир катера, молодой офицер в кожанке, – пропустили какую-то посудину на Констанцу…
– Ушла посудина-то?
– Засундучили ее летчики из минно-торпедной дивизии, – угрюмо сказал Михал Михалыч.
– Ну и что же, хорошо.
– На их счет пошла. Соревнуемся. – Михал Михалыч повернул ко мне свое освещенное хитрой улыбкой лицо. – Все бы ничего, да мы раньше праздника в колокола ударили…
– Как?
Хабаров с улыбкой сказал:
– Что было – прошло.
– Свой человек, – сказал Михал Михалыч, – ему можно. Видишь ли, на наш грех поднесло сюда фургон редакции «Последних известий» по радио, из Москвы. Такой это маленький шустрый человечек уговорил меня записаться на пленку. Ну, я записался, думал так, для тещи. Конечно, прихвастнул, как и полагается. Слушаю на следующий день радио. Мое выступление в эфире. Командир Н. Кто-то, конечно, не знает командира Н., предположим, в Тамбове, а ведь флот слушает, начальство. И дали этому командиру Н. духу. И выходит, я нахвалился на весь мир по-пустому, а ничего не утопил. Ну, кто мог знать, что этот шустрый человечек так может подвести? Кто же думал, что так ловко на радио работают? Бросился я к фургону, злой, как чорт, думаю: «Переверну!» А фургона-то и след простыл. Вот и кручу теперь чубчик на палец. Надо же оправдываться!
– Оправдались уже, товарищ капитан второго ранга, – почтительно вставил румяный и мило застенчивый Тимур.
– Оправдались на воспитании кадров.
– Насчет Кастелянца расскажите, товарищ капитан второго ранга, – сказал Тимур. – Поучительно.
– А… Кастелянц. Ты видел его, Лагунов? Я знакомил тебя с ним: армянин. Заметил, какая у него оснастка? Подковы гнет, двугривенный зубами перекусывает, лейтенант, из самой Эривани, с главной улицы, квартира у него там с водопроводом, канализацией и горячей ванной. На Севане плавать научился, а там, говорят, вода – лед, и, говорит, ни разу судорога не сводила, а как выходит на боевую операцию, в море, так скисает, как простокваша, хоть ложкой его накладывай. Что делать? Прогнать его? Легче всего. Накалякал характеристику, приложил печатку, послюнил конверт, отправил – и погубишь парня на всю жизнь. Раньше гнул подковы, а потом французскую булку не переломит. Значит, надо учить. А как учить? Только личным примером. В нашем аховом деле языком мало сработаешь. И вот подвалило на счастье задание.
Стояли мы до этого в Ак-Мечети, от непогоды укрывались. А двадцать четвертого вызвал меня комбриг: «Слыхал, есть обращение комфлота, шифровка?» – «Какое обращение?» – «Комфлота обращается к нам, к катерникам: сейчас, мол, решается судьба Севастополя, и наша бригада, имеющая отличный офицерский и матросский состав, должна помочь…» Ну, и так далее. Передает мне задушевное обращение адмирала Октябрьского. Говорю комбригу: «Я поведу сам звено». – «Веди два звена», – говорит комбриг. Вот, думаю, и испытаю своего Кастелянца. А в тот день прислала мне жинка письмо: «Мишуня! Нужен банкет двадцатилетия». Видишь ли ты, исполнилось двадцатилетие моей службы во флоте. Пишет она: «Все, что нужно для таких именин, запасаю».
– Неужели вы, Михал Михалыч, уже двадцать лет во флоте?
Михал Михалыч снял фуражку, наклонил голову с сильно поредевшими волосами и плешинкой на макушке:
– Здравствуйте! – И надел снова фуражку. – Шестого года рождения. Правда, сорока еще нет. – Михал Михалыч озорновато подмигнул мне: – Работал я в Ростове. Да, в Ростове на Дону, на судоремонтном «Красный Дон». Может быть, слыхал? В тысяча девятьсот двадцать четвертом году по разверстке ЦК ВЛКСМ послали меня во флот. Вот и посчитай, сколько лет днищем камни царапаю… Уже, брат, комсомольцы, что пришли на флот в двадцать четвертом году, в адмиралы повыходили. А я вот все на своих малютках сижу… Ну, не в этом дело, сбился с рассказа. И вот в день такого семейного юбилея решил выйти в море и сработать чисто. Вызвал я четыре «тэ-ка», построил и повел. Можно было итти на главную коммуникацию, но у них есть боковые. Решил я итти к мысу Улуколу, параллельно их боковой коммуникации: для успеха надо чаще менять тактику. Сегодня огнем завязал бой, а завтра подкрадывайся, как лиса. Сегодня покажись у Херсонеса, а завтра в другом месте. Чтобы они были в умопомрачении, какой именно коммуникации держаться. Надо сказать, что они плавают… ничего плавают, правильно. – Михал Михалыч обвел всех своими цыганскими глазами. – Выходят они обычно в сумерки, когда прожекторами еще бесполезно светить и достаточно темно, чтобы их не заметить, а потом – на Констанцу. Ночь в их распоряжении.
– А разведка у вас есть? – спросил я.
– Где?