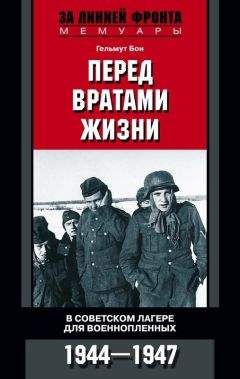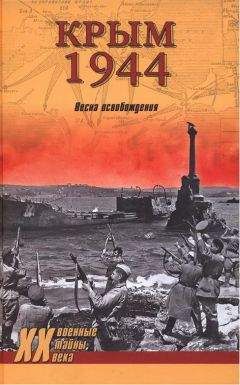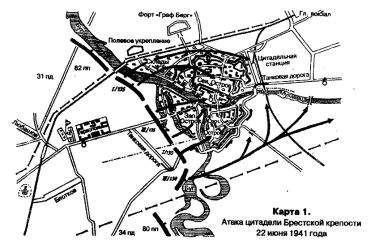Слова из английского словаря я учу и на кухне, когда стою у котла и помешиваю суп. Напряженная учеба способствует похуданию!
И в русский словарь я заглядываю частенько. Особенно тогда, когда наш кухонный шпик заглядывает мне через плечо:
— Как мило!
Он имеет в виду словарик, который умещается у меня на ладони.
Но я на самом деле учу русский язык.
— Разве ты не учил раньше английский? — спрашивает шпик.
— Да, учил! — как бы между прочим соглашаюсь я. — Но за русским языком будущее.
Тогда мой симпатичный шпик думает: «Нет, он не голодает специально, чтобы поехать домой. Тот, кто едет домой, не учит русский язык, если сам живет в Западной зоне!» Все это очень забавно. Я охотно подыгрываю ему, когда мы разыгрываем дежурного.
Дежурный по профессии учитель математики, он курсант последнего курса.
Когда он приходит к нам на кухню, мы кладем перед ним лист бумаги.
— Новое распоряжение! — говорим мы. — Ты, как дежурный, должен теперь взвешивать каждого повара и работника кухни. По утрам, когда повара приходят на работу, и по вечерам, когда они расходятся по своим корпусам. Это делается для того, чтобы можно было определить, сколько каждый из них сожрал за день.
Дежурный с самого детства был здравомыслящим человеком. Он несколько раз тщательно протирает свои очки, чтобы собраться с мыслями, прежде чем берет лист и вносит туда данные, сколько же весил каждый повар утром. Видимо, он думает: «В плену бывает столько всяких дурацких распоряжений; почему бы им не издать и это распоряжение?»
Но прежде чем взвеситься вечером, мы кладем себе в карманы гири. Когда оказывается, что один из поваров поправился за день на десять килограммов, дежурный-математик заявляет:
— Этого не может быть!
Того, кто поправился на десять килограммов, взвешивают еще раз. Теперь прибавка в весе составляет только два килограмма.
— Давай для верности взвесимся еще раз! — с довольной ухмылкой предлагает повар дежурному. Теперь прибавка в весе снова вырастает до пяти килограммов!
Мы снова выставляем весы. Теперь они показывают правильный вес. Дежурный передает лист с многократно проверенными данными дальше по инстанции.
— Теперь все еще раз убедятся, какие же дурные эти учителя математики! — хохочет миловидный шпик.
Так проходит время.
Когда незадолго до Рождества проходит очередное медицинское освидетельствование, меня признают нетрудоспособным по состоянию здоровья.
Это настоящий триумф! Еще четырнадцать дней в том же духе — и меня признают дистрофиком. Я даже во сне чувствую, как исхудал.
Но мои внутренние органы будут по-прежнему окружены жирком. Только бы не отложили отправку нетрудоспособных военнопленных на родину.
Мне надо было начать голодать еще раньше. Уже в июле 1945 года из Осташкова отправился в Германию первый эшелон с больными военнопленными. Но в то время они хорошо подкормили меня в активе.
Возможно, и хорошо, что так вышло. Поскольку тогда во время следования эшелона с больными в Германию многих выгрузили из вагонов — мертвыми.
В ноябре 1945 года из Осташкова должен был отправиться еще один эшелон на родину. Но как раз в то время я уехал поступать в антифашистскую школу.
Но на этот раз все должно получиться: в январе я уеду домой!
Стоят трескучие морозы. Когда я по утрам прохожу сто метров от корпуса до кухни, я едва не отмораживаю нос.
С каждой зимой в России остается все меньше пленных. Да и каждый пленный в отдельности тоже становится сам по себе меньше.
Мы все живем одной только надеждой.
Любой каторжник, по крайней мере, знает, когда вернется домой, и только мы, пленные, не знаем этого!
Но, может быть, в этой неопределенности кроется и нечто хорошее.
Разве не может в любой день прийти приказ о том, что на вокзале в Вязниках уже стоят вагоны?
Ведь все равно им придется однажды отпустить нас. То, что до сих пор почти никто не уехал, еще ни о чем не говорит.
Возможно, это даже хорошо, что мы все еще остаемся в плену.
Дома царят голод и нищета — так пишут газеты. Но лучше голодать дома, чем работать на продовольственном складе в России! Я просто уже не выдержу еще один год вечной лжи и этого хаоса с клопами, мисками супа и постоянными интригами.
За день до Нового года Прюмке, секретарь актива, сказал мне:
— Ты опять постригся наголо. Ты же должен поехать с нами! Или Конрад еще не говорил с тобой?
— Как так? — удивляюсь я. Уже несколько дней ходят слухи, что актив пакует свои вещи.
Вся лагерная буржуазия пребывает в крайнем волнении, кому же разрешат поехать вместе с активом в Иваново.
Там должна открыться новая лавочка. Активу 165-го лагеря, показавшему себя на деле перед сотней проверяющих, комендантов, офицеров-политработников, преподавателей антифашистской школы и политинструкторов, доверено выполнение почетного задания.
А потом отправка на родину?
Они занимаются своим обмундированием.
Сапожники подбивают сапоги, хорошие офицерские сапоги.
Портные подгоняют костюмы. Наградные костюмы, к которым активу выдаются квитанции, так что русские не смогут снова отобрать их.
Весь лагерь взбудоражен.
Когда кто-нибудь из актива дежурит теперь на кухне, то уже не ведет себя так принципиально, как раньше, а с аппетитом уплетает жареную картошечку, которую шеф-повар стыдливо подает ему в отдельном кабинете.
И только Конрад непреклонен, как всегда.
Конрад — староста антифашистского актива.
Довольно молодой, молодцеватый, бывший передовой наблюдатель в немецкой артиллерии, сейчас уже шестой год, как в плену. Пламенный антифашист.
Он готов отдать жизнь за то, чтобы новая Германия стала прогрессивной и демократической страной, связанной вечной дружбой с миролюбивым Советским Союзом.
У него быстрая, твердая походка, у этого Конрада.
Но на лбу у него постоянно блестят капельки пота. Нервы.
— Как же так, почему я должен поехать? — говорю я Прюмке, вместе с которым занимаюсь проверкой писем. Значит, что-то на самом деле происходит.
— Если Конрад еще не разговаривал с тобой, то тогда считай, что я ничего тебе не говорил! — идет на попятную добросовестный Прюмке.
Однако вскоре таинственный список возвращается из политотдела.
— Ты поедешь с нами в Иваново! — говорит мне Конрад. — Пока еще точно не известно, на каком посту тебя задействуют в Иванове. Возможно, выпуск центральной стенгазеты. Твои вещи в порядке?
Я шесть долгих недель голодал, недосыпал, чтобы комиссия признала меня нетрудоспособным. И вот теперь, когда меня комиссовали и я готов к отправке на родину, какое-то злорадно ухмыляющееся чудище хватает меня: «Нет, голубчик, у нас другие планы насчет тебя!»
И при этом я даже не курсант.
Курсанты, которых обманули с отправкой на родину, ропщут и ворчат, когда распространяется слух, что я, не курсант, должен поехать с элитным активом в Иваново.
— Разве это правильно, что мы, принявшие присягу курсанты, отправляемся в лес на лесоповал, а какого-то жеребца с кухни привлекают к политической работе?
— Никаких дискуссий! — ставит их на место Конрад.
— Я сам удивлен, Конрад! — говорю я ему, впервые называя его по имени. И это дается мне нелегко.
И не потому, что он влиятельный человек, к которому многие набиваются в друзья, фамильярно называя его Конрадом. Это дается мне тяжело потому, что он честный человек, который стоит на неверной стороне, а я не могу сказать ему об этом.
— Я прекрасно понимаю, почему курсанты относятся ко мне с недоверием!
— К чему это? — говорит Конрад. — Тот, кого мы берем с собой в Центральный антифашистский актив в Иваново, сто раз проверен, в том числе и политотделом. Можешь об этом не беспокоиться!
— Тогда все хорошо!
Но может быть, это все-таки какая-нибудь хитроумная ловушка. Хотя я не такая уж и важная птица, чтобы так изощряться. И что теперь?
— Сегодня мы еще раз устроим себе день миллионеров! — говорю я Герману, своему приятелю по работе на кухне. — Где у нас жареная картошка? Запеченные мозги еще остались?
Какой же идиотизм, целых шесть недель я напрасно мучил себя голодом!
— Сегодня я принес тебе что-то особенное! — говорю я Бернду, который влачит жалкое существование в госпитальной зоне. — Вот тебе пара хороших кожаных ботинок. У меня есть вторая пара. Вот сорочка, кальсоны, портянки. А вот здесь хлеб. Ну а теперь нам пора прощаться. Не вешай носа, старина!
Мне очень жаль Бернда. Теперь уж никто не принесет ему хлеба.
— Да, я уезжаю вместе с активом в Иваново, — сообщаю я знакомому офицеру из Мёрса.
У него никак не укладывается в голове, что я вот так вдруг оказался в активе. Он всегда считал меня порядочным человеком.