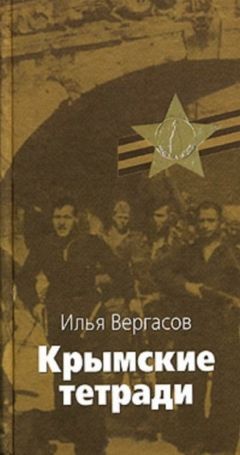Мы готовили очередную информацию для Севастополя, нам нужен был «язык»-румын: надо было узнать о многом, что касалось румынского корпуса, его тылов, жандармских формирований.
Македонский держал со штабом района постоянную связь; в очередном донесении он подробно написал о некоем румыне-греке Томе Апостоле, преданном председателю колхоза.
Мы приказали доставить румынского ефрейтора в лес.
Румына решили взять подальше от Лак, чтобы к деревне не привлечь излишнего внимания. Исполнители — Самойленко и Спаи.
Лели уговорил Тому сопровождать его до Керменчика.
Шагали налегке. Тома забегал то справа, то слева и все говорил, говорил…
Навстречу шел высокий черноусый дядько… Тома где-то его видел, да и глаза у встречного веселые, ничего неожиданного не предвещают.
Черноусый поздоровался с Лели, сказал по-гречески:
— А хорошее сегодня утро!
— Отличное! — согласился Лели.
— Крим — во! — Тома показал большой палец.
Спаи вытащил из кармана кисет:
— Закурим, солдат!
Тома отдал карабин Лели и с охотой крутил большую цигарку.
Только прикурил, как из-за куста вылез вооруженный Михаил Самойленко.
Тома побелел, но выучка сказалась: сразу же кинулся к карабину.
Но Лели оружие прижал к себе:
— Тебе это не нужно, солдат.
Тома стоял как пригвожденный, у него тряслись руки. Он глухо спросил:
— Пп… аар… ти… заан?
— Спокойно. — Самойленко обшарил его карманы: нет ли личного оружия, взял из рук Лели карабин, простился с председателем. — Спасибо, надо спешить, путь далекий.
Тому необходимо срочно доставить в штаб района. Сорок километров трудной зимней дороги.
Самойленко оценивающе смотрел на щуплую фигуру румынского ефрейтора, пришибленного неожиданным поворотом своей судьбы.
Тома от испуга потерял дар речи.
Спаи постарался успокоить: ничего с тобой не случится, друг. Но Тома перестал даже понимать по-гречески и только со страхом смотрел на Самойленко.
Михаил Федорович — холодный и расчетливый человек по внешнему виду имел доброе, жалеющее сердце, хотя об этом трудновато было догадаться. Он редко улыбался, близко расставленные глаза будто смотрели в одну точку.
Не ахти какой ходок был Тома, уже через несколько километров он стал задыхаться, но боялся признаться и безропотно шагал за широкой спиной «домнуле», — он принимал Самойленко за важного офицера.
Вскарабкались на кручу, Самойленко снял с плеча карабин.
— Подзаправимся, Николай Спиридонович!
Спаи ловко развел очаг, в котелке разогрел баранину, разломал полбуханки хлеба на три части.
— Садись! — Самойленко позвал румына.
Тома вобрал в плечи голову.
— Ну!
— Домнуле… офицер… Тома сольдат…
— Я не офицер, а товарищ командир! Садись, раз приглашают.
Тома почувствовал в голосе Самойленко доброжелательные нотки, чуток взял себя в руки.
— Туариш… Тома-туариш…
— Ишь, товарищ нашелся, — хмыкнул Самойленко, подал ложку, коротко приказал: — Ешь!
Тропа сужалась, а ледяной ветер косо бил по усталым путникам.
Короткая желтая куртка и беретик не грели Тому. Он посинел, мелко стучал зубами.
— «Язык» может дуба дать! — забеспокоился дядя Коля. Ему было жаль солдата.
Самойленко снял с себя плащ-палатку и подал Томе:
— Укутайся!
Ошеломленный румын испуганно уставился на «домнуле», который остался в одной лишь стеганой курточке.
Тропа оборвалась перед бурной Качей. Летом река тихая, мелкая, как говорят, воробью по колено. Зато сейчас… Шумит, бурлит, прет с такой силищей, что и на ногах удержаться можно только очень опытному ходоку.
Никаких переправ, и Тома глядел с ужасом на воду. Особенно потрясали его действия «домнуле», который на ледяном холоде в один момент сбросил с себя одежду и остался нагим.
— Раздеться! — крикнул он и румыну.
Тома уже ничего не понимал и действовал автоматически.
Вода обожгла его, конвульсивно сжалось маленькое тело. Дядя Коля с силой волочил его за собой и вынес на тот берег.
Самойленко быстро и ловко начал растирать всего себя от кончиков пальцев до мочек ушей и требовал этого же от Томы.
Сильное тело Михаила Федоровича раскраснелось, загорячилось. Он ловко оделся и подбежал к Томе, который уже на все, в том числе и на собственную жизнь, махнул рукой. И если он еще шевелился, то только из страха: не вызвать бы гнев грозного «домнуле».
Михаил сгреб его в охапку, брякнул на сухой плащ и самолично стал приводить в чувство.
Его цепкие руки проворно растирали дрожавшее тело, и Тома ощущал, как блаженное тепло обволакивает его со всех сторон.
Он увидел глаза «домнуле», в которых ничего страшного не было.
И что-то новое, никогда не испытанное наваливалось на маленького парикмахера.
Собрав запас русских слов, которые каким-то манером отпечатались в его памяти, крикнул:
— Гитлер сволош… Я туариш Тома.
Румын оказался человеком наблюдательным: в этом убедился партизанский штаб, когда допрашивал его о румынских войсках в Крыму.
Как быть с ним дальше?
Лагерей для пленных у нас не было, да и в плен нам брать, собственно, некого было: дело имели с карателями, военными преступниками, и счет у нас с ними был короткий.
Можно ли до конца доверять Томе?
Вопрос нелегкий, и на него может ответить лишь сама жизнь. Пока что Тома остался при Бахчисарайском отряде под негласным надзором дяди Коли, который лично ему доверял. Один случай убедил партизана: на маленького парикмахера можно вполне положиться.
Охотники убили оленя и просили дать им двух человек на помощь, чтобы перенести мясо в отряд.
Пошел пожилой Шмелев, а с ним снарядили и Тому. Получилось так, что их пути разошлись. Тома, взвалив на плечи оленью ногу, пошел по прямой тропе, а Шмелев двинулся в обход. Так и потерялись.
Прошло несколько часов, а о Томе никакого слуха. Неужели сбежал?
— Дьявол его знает! — сомневался Михаил Самойленко, который был во всех случаях человеком осторожным.
Комиссар отряда Черный верил румыну.
— Куда он денется! Может быть, он впервые человеком себя почувствовал.
А дядя Коля нервничал, прислушивался к каждому шороху. К вечеру глаза его живо блеснули:
— Идет!
Не шел, а полз Тома Апостол. Он заблудился, а тяжелый груз окончательно доконал его. На четвереньках карабкался в отряд, и когда докарабкался, то умоляюще произнес:
— Туариш Тома удирать не делал…
А ориентировался Тома действительно из рук вон плохо. Вот он моет партизанский котел — аккуратно, старательно. Вымыл, песочком почистил, идет в отряд…
Но отряда нет. Туда — нет, сюда — нет… Спрятал котел в кустах, отчаянно забегал вокруг, но троп много, и по какой в отряд — шут его знает.
Спустился к речке и загрустил.
Мимо шли партизаны Евпаторийского отряда, увидели румына…
Щелкнули под самым носом затворы, Тома поднял глаза и обмер: черные отверстия автоматов уставились в грудь…
— Туариш… Ма… ке… дон… ский!!! — дико заорал Тома.
Только это его и спасло.
Уже весной 1942 года, в дни нашего самого отчаянного голода, среди румын в Крыму появились кое-какие признаки разложения.
В горных селах, например, можно было обнаружить бродячие «команды» румын. Они под всякими предлогами требовали у старост продовольствие, ночевку, вино.
Вначале их принимали за представителей румынских частей, но потом немцы издали специальный приказ о таких «командах», и их начали повсеместно преследовать.
Начальник разведки Михаил Самойленко, возвращаясь с очередной операции, заметил на партизанской тропе румынских солдат без оружия.
— Или рехнулись, или в царство небесное хотят до срока попасть!
Партизаны окружили румын, выскочили к ним:
— Руки вверх!
На всякий случай Самойленко отрезал у всех румын, охотно подчинившихся его команде, пуговицы с брюк, аккуратно вручив их владельцам:
— Понадобится — пришьете!
Тома Апостол, конечно, пришел в восторг, когда увидел своих, прыгал, как мальчишка, в момент побрил своих соотечественников, беспрерывно лопоча что-то на родном языке.
Румыны, оказывается, искали партизан. Случай этот здорово нас подбодрил в те тяжкие дни.
…Мы простились с нашим главным врачом — Полиной Васильевной.
Македонский долго смотрел на тропу, по которой уходила наша докторша.
— Хороший человек шагает по земле! — сказал Михаил Андреевич.
Мы вернулись в шалаш.
Голодная блокада леса сказывалась и здесь. Связь с селами на время прекратилась. Отряду жилось все труднее и труднее. К моему приходу у бахчисарайцев уже два дня не было в котле ничего, кроме липовых почек и молодой крапивы.
Глаза у всех запали, скулы заострились, но той безнадежной отечности, что сводила многих прямо в могилу, здесь ни у кого не было.