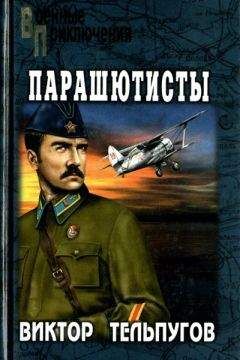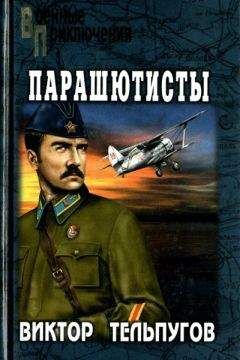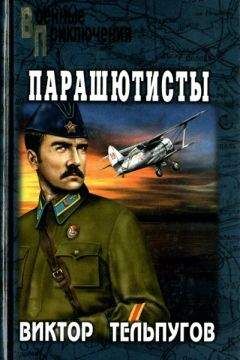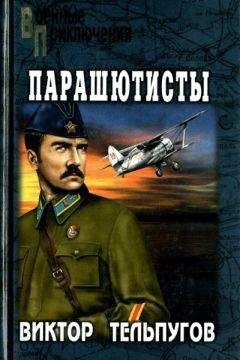Коварная штука незнакомый лес! В хорошо изведанном, и в том заблудишься запросто, особо в такую погодку. Совсем с другой стороны примчался Сергей к шалашу. Застал Евдокушина в той же самой позе, в какой оставил. Не разметался, молодец парень. Был бы совсем молодцом, если б не хрип этот, становившийся все более жутким. Казалось, радист вот-вот задохнется во сне. Сергей испуганно растолкал его:
— Ну чего ты, Коль? Плохо тебе, да?
Больной приоткрыл глаза, не ответил, только едва заметно кивнул.
Слободкин, прикоснувшись ко лбу Николая, отпрянул. Температура лезла все выше и выше. Чудодейственное лекарство оказалось бессильным. Слободкин тем не менее попробовал всыпать в рот Евдокушину новую дозу таблеток — ничего из этого не вышло: зубы радиста были крепко стиснуты, он задыхался.
Сергею стало так страшно, как ни разу еще не было за всю войну. Он выскочил из шалаша, отвязал Серого и верхом двинулся на стук топора. Удары мокрых ветвей обрушились на Слободкина с новой силой, но ему казалось, что Серый идет куда-то не туда и продирается сквозь чащу слишком медленно, хотя тот, застоявшийся и, видимо, все понимавший, поторапливался как мог и с дороги они не сбились.
Глянув на Слободкина, от волнения не то слезшего, не то свалившегося с коня, командир, не скрывая досады, спросил:
— Обратно плохо?
— Совсем плохо. Надо что-то предпринимать.
— «Предпринимаем»… — коротко и зло прогудел командир. Он добавил еще что-то, наверно, касательно «партизан-разведчиков», но кашлянул при этом и тем приглушил собственные слова и, кажется, был рад, что так или иначе сдержался. Еще раза два кашлянул в кулак, плюнул в ладонь, перехватив топор из руки в руку, потом сказал:
— Ножом разожми зубы, а таблетки всыпь, слышь? И не отходи от него. Мы скоро теперь. А Серого здесь оставь. Слеги готовы, волокушу заканчиваем. Тут и захомутаем. К вечеру быть дома должны.
Мрачный, он снял шапку и в сердцах наотмашь стряхнул ее, тяжелую, насквозь промокшую — изнутри от пота, снаружи от дождя. Лужу, в которой стоял командир, крупные капли прошили словно пулеметная очередь.
— Как считаешь, старшой? — командир глянул на Плужникова. — Управимся?
— Тебе видней, командир, — сдавленным голосом ответил тот.
Слова были обыкновенными — Слободкина поразило, как они были сказаны. Чувствовалось, выбился человек из сил. Выбивался, выбивался и выбился.
«А кто не выбился? В ком хоть капелька осталась того, что силой зовется? В тебе, командир? Ты жестом своим сейчас выдал себя с головой. В тебе, Старик? Не ври, все равно не поверю. Глазки твои куда провалились? В тебе, Слобода? (Сергей любил иной раз думать о себе в третьем лице — это почему-то помогало в трудную минуту жизни.) И ты не бреши! Кого обманывать удумал? Сам себя? Напрасное дело. Плужникова еще можно вокруг пальца обвести. Старика тоже. В крайнем случае, даже командира. Но себя самого трудно, невозможно…»
Тут Слободкин поймал себя на слове: «Так как же все-таки — трудно или невозможно? Уж одно что-нибудь. Если трудно, значит, все-таки есть шанец. Если невозможно, то и рыпаться нечего. А ты все ж попробовал бы, Слобода, порыпался…»
Так, на бегу к шалашу, опять кружа, сбиваясь с пути, — пытался хоть немного приободрить себя Слободкин. — Приободрил? Приободрил, кажется. Хоть на несколько коротких минут. А в шалаше уж не до того было. Все вниманье — больному. — Немного, правда, мог для него сделать. Укутывал радиста наволглым, не способным согреть тряпьем. О чем-то спрашивал, не получая ответа. Доставал из командирского вещмешка таблетки, пичкал ими Николая, а сам все думал о том, как же, черт возьми, не повезло им. — Все уже, вроде бы, образовываться начало. А потом — час от часу не легче. Впрочем, на войне всегда надо готовить себя к самому худшему (так настойчиво Брага учил). Но может ли быть хуже, чем сейчас? Запросто! Можно, скажем, еще в одно ледяное болото врезаться. Потом еще в одно. Потом всякую связь с отрядами потерять, завязнуть на зиму в непролазной этой глухомани. Верно, «в общем и целом», сказал Гавру сев перед отправкой — край сплошных озер и болот. Умолчал только самую малость — про то, что некоторые из них ледяные. Но это они теперь сами знают — отведали, распробовали. Евдокушину, бедолаге, круче других пришлось».
Незаметно, исподволь к Слободкину подбирался еще один «наперекосяк». Он сперва почувствовал, что у него самого горит лоб, пылают щеки, потом все тело начали стягивать тугие жгуты озноба.
Снова Сергей попробовал о себе в третьем лице подумать. На сей раз почему-то не вышло. А лоб горел все жарче, щеки полыхали все горячей. И, кажется, давно уже. Но ничего этого он не замечал и замечать не хотел до самой последней минуты. Снова и снова склонялся над больным. Сидеть на корточках стало неудобно и даже больно — попробовал привалиться плечом к одной из зыбких стенок шалаша. В этой предательской позе его и скрутило по рукам и ногам…
— Что за чертовщина?! — услышал Слободкин сквозь тяжкую дрему командирский гудящий бас над самым ухом. — Был один лежачий, теперь двое с копыт. — Мокрая, холодная рука Василия легла на лоб Сергея. — Не хватает нам всем тут плюхнуться — и лапки кверху!
Что солдата подымает на ноги? Долг. Приказ. Необходимость. Слободкина в этот раз обида подняла. На самого себя, ясное дело, прежде всего. Но и на командира: не только рука у него была холодна. Встрепенулся Сергей, упрямо отвел ледяную жесткую руку, выкарабкался из шалаша наружу. Встретившие его Плужников и Старик, сразу заметившие резкую перемену в состоянии Сергея, — в один голос:
— И ты туда же? Час от часу не легче!
Одна обида у Слободкина наложилась на другую. Он ничего не ответил, только оперся о шелестевший от дождя и ветра куст, чтоб стоять уверенней.
Командир, выползший из шалаша следом за Слободкиным, подошел к нему вплотную. Еще раз его рука скользнула под чубом Сергея. Диагноз в устах командира прозвучал раздраженно:
— И у этого под-за сорок.
Плужников и Старик сперва было не поверили командиру. Как же, мол, так? Совсем недавно здоровым был. Но, присмотревшись к Сергею повнимательней, засуетились.
— Давай свое снадобье, командир! — услышал Слободкин голос Плужникова.
Плужникова? Или Старика? Сергей толком не мог разобрать, хоть и очень старался — в ушах у него звенело, голова разламывалась.
«Совсем недавно здоровым был»? Верно, был. Но когда? Вчера? Или позавчера? Сбился со счета Слободкин. А командир уже заталкивал ему в рот лекарство, вкус которого нельзя было разобрать — губы и язык горели, глотку драло. Не понял Сергей, и чем заставили запивать пилюли, никак не желавшие проскочить внутрь, огромные, как пуговицы от телогрейки.
Позднее Слободкин каким-то чудом восстановил в памяти многое. Некоторые детали вырисовывались с поразительной четкостью. Слеги, о которых он имел смутное представление, оказались самыми обыкновенными оглоблями, только раза в два подлинней — с постепенным переходом в упругие окончания, мягко стлавшиеся по земле. Волокуша не была каким-то отдельным сооружением — слеги, ловко сплетенные лыком поближе к концам, образовывали подобие носилок, из которых раненый не выпадает при движении по любой дороге и даже без всяких дорог. Может быть, волокуша в таком виде была изобретена партизанами, может быть, даже самим командиром, который, что ни говори, все больше раздражал Слободкина: Слеги-то и волокушу он хорошо сработал. Хорошо Евдокушина уложил и укрыл. Но зачем же в носилки, тем более одноместные, сразу двух людей укладывать? Так не пойдет, командир, не пойдет. Я уж как-нибудь на своих двоих».
Тут схлестнулись они с командиром. И еще как схлестнулись! Один в свою сторону гнул, другой — в свою.
Плужников тоже хорош. Встал на сторону командира. Ложись, дескать, и все тут. Старик заодно с ними, дьяволами.
Всеми правдами и неправдами на своем Слободкин настоял. Вцепился в слегу возле хомута, словно впрягся. Никто не мог его оторвать, хотя и пытались. Сергей даже сказал, кажется:
— Поехали.
Сказал? Или не сказал? Прорычал, скорее всего — такая злость закипела в нем. На командира. На Плужникова. На Старика.
— Поехали, — буркнул наконец командир и взял под уздцы Серого. — Минуты больше терять не должны. Секунды!…
«Партизаны-разведчики…» — проносилось в воспаленном мозгу Слободкина. Сквозь шум в ушах, сквозь шелест веток, которые с новой силой стали хлестать по лицу, опять и опять слышал Сергей откуда-то издалека эти до боли обидные, но и подстегивающие слова. Эти и еще кое-какие, посолонее, покрепче.
Наступил момент, когда Сергея покинуло ощущение реальности происходящего. Шагал он или стоял, опять и опять увязая все глубже в ледяном болоте? Плелся, держась за слегу или, подчинившись командиру, опрокинулся в волокушу, рядом с метавшимся в жару Николаем? Во что на деле превратились те «часика три-четыре», которые отделяли их от первого отряда? На эти вопросы Слободкин искал и не находил ответа. Потом он вдруг снова оказался в каком-то шалаше. Оглядевшись как следует, понял, что не в «каком-то», а в настоящем, сработанном по всем правилам партизанского искусства. Дождь, продолжавшийся непрестанно, не пробивал его круто спадавших к земле скатов. И было в шалаше покойно, даже можно сказать уютно. В середине теплился крошечный костерок. Это были первые впечатления Сергея, когда он расправил затекшие ноги, разомкнул тяжелые веки и огляделся. Костерок не дымил, не чадил, а только источал ровное, чуть потрескивавшее тепло — это говорило о том, что распалили его и поддерживали огонь в нем очень умелые руки, видно, те же самые, что возводили шалаш. Уже от одного этого настроение у Слободкина стало подниматься, хотя хворь не отпустила его, крепко, до боли в спине впечатала в настланные еловые ветки. Не отпустила она, судя по всему, и Евдокушина, лежавшего рядом и продолжавшего дышать все так же надрывно.