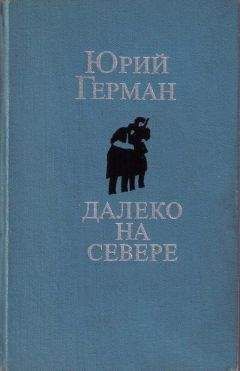Постучал Колесников, принес воду для бритья. А за ним в двери уже стоял Чижов, в своем слишком высоком подворотничке с торчащими уголками, спокойный, рассудительный, любящий хорошую беседу за самоваром.
Пока командир брился, Чижов рассказывал ему корабельные новости: что произошло за сутки, какие были взыскания, как краснофлотец Мордвинов до того навалился на шлюпке, что сломал весло.
— Вот, кстати, — сказал Ладынин, — вы мне его потом пришлите.
— Есть, прислать, — ответил Чижов.
Попросил разрешения закурить, закурил и рассказал, что получил от супруги письмо. Печальное. Говорил с Тишкиным, по Тишкин ничего дельного посоветовать по смог. Конечно, Тишкин не специалист, но ведь это все-таки смешно — советовать натирать голову искусственным снегом.
— Кому голову? — спросил Ладынин.
— Да супруге моей. Пишет, что лысеет. Они, знаете ли, эвакуировались в поселок Нек-Ышим. Ну, а там вода какая-то особенная. Вот Полина и лысеет.
Чижов с тревогой смотрел на Ладынина.
— Нет, тут я мало знаю, — сказал Ладынин, — ничего не могу посоветовать.
Опять заговорили о корабельных делах. Пришел командир БЧ-V жаловаться, что неладно с водой. Потом начхоз сообщил, что рыбаки привезли в подарок треску, свежую и очень хорошую, — брать или неудобно. Трескоед Чижов страшно оживился и выскочил из каюты вслед за начхозом, а Ладынин, натирая лицо одеколоном, сказал, что надобно поднимать пар.
— Есть, поднимать пар! — вставая, ответил Хохлов, и в глазах его Ладынин прочитал тот мгновенный и сдержанный вопрос, который всегда возникал в глазах молодых командиров, когда дело касалось похода.
И согласно своему твердому правилу Ладынин никогда не отвечал на эти молчаливые вопросы.
— Есть, поднимать пар, — повторил командир БЧ-V и спросил, можно ли ему идти.
— Идите, — ответил Ладынин.
Вновь он остался в своей каюте, у себя дома, один со свои ми мыслями. В трусах сходил в душевую, фырча, как отец, вымылся и чистый, выбритый, отутюженный вошел в кают-компанию обедать.
Штурман и артиллерист только что приехали из города поездом, и у обоих был тот особый, немного виноватый и чуть поблеклый вид, который бывает у командиров-моряков, когда, долго не бывая на берегу, они наконец съезжают, воплощают в жизнь кое-какие свои мечтания и возвращаются на корабль, сердитые и на собственные мечты, и на их воплощение, и на самих себя, и счастливые оттого, что все «это» позади и что они дома, в настоящем, своем, родном доме, в котором хоть и скучновато иногда, но зато дельно, чисто, ясно и, как полагается мужчине, все честно и в открытую.
Когда Ладынин вошел, они оба с кислыми лицами играли в шахматы, и все кругом понимали, что играют они не ради того, чтобы играть, а ради того, чтобы их не разыгрывали и не задавали им ядовитых вопросов.
— Прошу к столу, — вкусным обеденным голосом сказал Чижов и первым сел на свое место — против командира, подмигнул и спросил: — Чего это, штурман, на вас клевещут, будто вы…
Кругом засмеялись.
Чижов опять подмигнул и опять спросил:
— Правду говорят или небось врут?
— Не знаю, — сухо сказал штурман, — это вот Илья Ильич знает. Это ведь он наложил…
Артиллерист поперхнулся супом.
— А что в самом деле случилось? — спросил тонким голосом Тишкин. — Я ничего не знаю.
Штурман совсем опустил голову над тарелкой и только порой с детски-опасливым выражением поглядывал на командира. Но Ладынин ел, как будто бы ничего не замечая.
— Придется лейтенанту рассказать, — попросил Тишкин, — уважить общество. Интересуется народ.
— А что? — сказал артиллерист. — Ничего тут особенного нет. Штурман вот теперь на меня сердится, что я его, видите ли, не удержал, а сам… Короче говоря, у меня в городе есть знакомые. Вот мы туда пришли. Ну, принесли с собой кое-что. А там одна девушка есть по имени Еля. Ничего, красивенькая. По специальности зубной техник. Вот штурман немного выпил и сразу влюбился. Но как! Я сижу рядом и прямо ушам свои м не верю. «Вы, — говорит, — моя сказка. Вы для меня сон. Дуну — и вас нет». Я его стал уговаривать, чтобы он не напирал. А он все свое. И какие слова, оказывается, знает, я даже и не думал никогда. «Прекрасная Елена! О мои кудри! О ты, как солнце…» И несет, и песет… — Артиллерист поглядел на Чижова веселыми глазами и поднял руку:
— Это еще что! Не в этом дело. Дело совсем в другом. Я его увел, и все обошлось чинно-благородно. Но только на улице он решил, что это он свою Елю провожает — она ему обещала, что он ее проводит, и это у него в голове засело, Вот он и решил, что дождался и что провожает. И прямо, вы знаете, с ходу мне предложение делает. «Выходите, — говорит, — за меня замуж. Я, — говорит, — очень детей люблю. И всегда сестриного Вальку нянчу. Будем хорошо жить. И не смотрите, что я сейчас такой. Я ведь непьющий. Меня от этого тошнит. Но я, — говорит, — вполне соображаю». Ну, тут я не выдержал и спрашиваю: «Штурман, на ком это вы жениться собрались?» А он хоть бы что. «На вас, — отвечает, — на Еле».
— Неправда это, — грустно сказал штурман, — я помню, что я ей говорил, Не говорил я он про женитьбу.
За столом смеялись все громче, все веселее. Чижов раскашлялся от смеха и причитал:
— Ох, и травит… Ох, и травит…
— Да никто не травит, — рассердился артиллерист, — даже странно. Все чистая правда… Разве такое можно выдумать?
— Вино было ненормальное, — сказал штурман, — какое-то корневое. Я не виноват. Я его в горячий чай вылил, мне пить хотелось, вот так и вышло… А что я лейтенанту предлагал замуж выходить — не может быть, 'Это он нарочно. И про детой тоже.
— Так откуда же я знаю, что вы, товарищ штурман, любите детей и даже нянчите своего племянника по имени Валька? Откуда?
Штурман растерянно молчал. Чижов попросил разрешения курить. Обед кончился, но никто не уходил — вес любили это ленивое, веселое, спокойное и какое-то семейное послеобеденное время. Хохлов с начхозом сели играть в шахматы. Тишкин внезапно спросил:
— Позвольте, а когда же это все могло случиться, когда вы могли успеть, если в двадцать два сорок началась воздушная тревога?
— Наш так называемый кутеж, — ответил артиллерист, — начался в двадцать один, а кончился в двадцать два пять. Вот так.
Штурман громко высморкался и сел читать газету. У него был обиженный вид.
В это время заговорил Чижов. Видимо, он сам не ожидал от себя такой прыти, потому что, когда глаза командиров всех, кто пыл тут, — с удивлением поднялись на него, он на мгновение смешался, покраснел, по тотчас же заставил себя говорить дальше.
— Вот смешные были у вас приключения, — сказал он, — слушал и смеялся, а теперь думаю: нехорошо. Ничего в этом хорошего нет.
Глаза у него сделались сердитые.
— Не нравится мне все это, — заговорил он совсем строго. — Поняли, товарищи командиры? Я тут не первый день, на корабле, и не первый день слушаю вас. Вот товарища Тишкина как-то слушал вечером, он тут книжку принес и все разорялся с книжкой — размахивал, помните? Тишкин, какой это вы стишок тут зачитали?
— «На час запомним имена, — с готовностью, захлебываясь, продекламировал Тишкин, — здесь память долгой не бывает, мужчины говорят — война и наспех женщин обнимают». Этот?
Продекламировал и победно надернул плечами.
— Этот самый, — с брезгливой злостью сказал Чижов и вдруг увидел, что командир смотрит на него теплым, как бы греющим взглядом. — Этот самый, — громче и злее повторил Чижов, — вот-вот: «наспех обнимают». Нет, что выдумали, — обращаясь к командиру, воскликнул он, — что только выдумали, это даже нельзя себе представить, Александр Федорович, что они выдумали. Это значит, наспех надобно свои делишки обделывать, так, что ли? Память теперь долгой не бывает? Это вы хотите сказать своим стишком, товарищ Тишкин? Это вы нам тогда тут зачитали?
Немолодое курносое лицо Чижова совсем покраснело.
— Срам! — кашляя, сказал он. — Срам! Позор и срам! У меня брат под Сталинградом погиб. В последнем письме он жене так и написал: за тебя, дескать, иду в бой, За наш очаг семейный иду, за нашу любовь. За любовь! — Чижов поднял палец, но внезапно сконфузился и заговорил скороговоркой: — А пьяненькие влюбляетесь. Чушь какую-то порете. Вздор, ерунду собачью. У командира все должно быть красиво, ежели ты моряк. Красивая должна быть жизнь. И любовь должна быть серьезная, красивая, не какая-нибудь. Верно говорю, командир?
Все глаза обратились к Ладынину.
— Думаю, что верно, — сказал он, — думаю, очень даже верно.
Вестовой с шумом и звоном начал собирать стаканы. На него цыкнули.
— Знаю я одного человека, — затягиваясь папиросным дымом, сказал Ладынин, — так себе человек, не то, чтобы очень хороший командир. Но грамотный, совершенно грамотный. И не трусливый, знаете, человек. Так вот, создал он себе теорию, порочнейшую, на мой взгляд, теорию, что жизнь и военная работа моряка — вещи разные и между собою никак не связанные. Не раз мы с ним об этом предмете спорили, почти до грубостей доходили. И вот, — он снова затянулся, — оказалось, что я прав. Пошел этот командир со своими теориям и туда, — он показал пальцем под стол, — вот куда пошел.