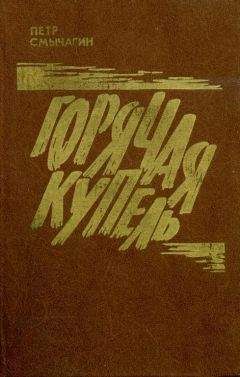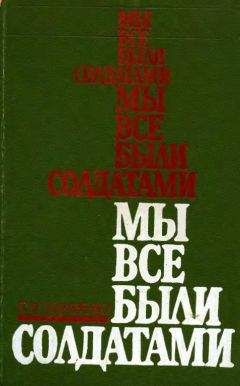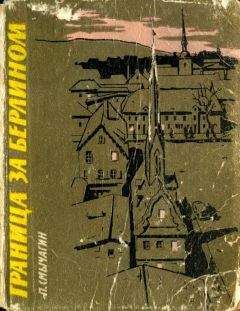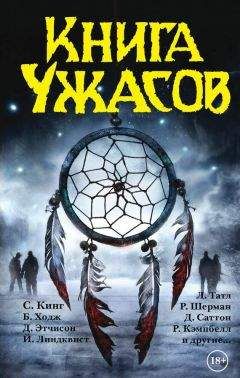— Ты веришь, что они его возьмут? Тебе хочется умереть на улице, а не в этом подвале?! — покраснев, сердито заговорил лысый. — Я не позволю провокатору разводить коммунистическую пропаганду!
— А мы все-таки пойдем! — вспылил старик, быстро отошел в свой угол, выдернул из детской коляски алюминиевую дугу, на которой болталась привязанная на ленточке погремушка, сорвал ленту и стал разгибать дугу, делая из нее прямой стержень.
Хозяин радиоприемника метнул ненавидящий взгляд на старика, короткой рукой нервно погладил большую, пылающую краснотой лысину, громко, чтобы все слышали, заявил:
— Я сейчас же сообщу офицерам наверху, чтобы убрали от нас этого коммунистического провокатора.
— А мы сейчас же отправим тебя на тот свет! — крикнул от противоположной стены Аугуст Бенке.
Толстяк промолчал, однако двинуться с места не решился, потому что угроза чувствовалась не только в словах Бенке, но и в осуждающих взглядах многих людей.
— Всем приготовить белые флаги! — приказал из своего угла старик. — Простыни, скатерти, занавески — все сгодится!
Народ зашевелился, заплакали женщины, дети. Одни целовались, прощаясь, может быть, навсегда, другие ругались, третьи спорили, четвертые плакали. И все это гудело, возилось, возмущалось, трепетало от страха. В этой возне и сутолоке, когда каждый был занят только собой или своими близкими, лысый толстяк незаметно юркнул в дверь и скрылся на лестнице.
Аугуст Бенке развязал узел, дернул за угол белую испачканную скатерть — на пол посыпались чайные ложечки, коробка с таблетками, спринцовка. Градусник отлетел и разбился о стену.
— Значит, мы идем, Аугуст? — спросила жена. — К коммунистам?
— Вы как хотите, а я не пойду, — заявила Берта и села на узел, лежавший у самой стены. — Никуда не пойду!
— Берта! Берта! — запричитала мать. — Пусть лучше мы вместе умрем. А может, нас не убьют. Ведь ты сама говорила, что они — такие же люди.
— Пусть остается, — сердито сказал Аугуст. — Она не маленькая. Как хочет. Здесь или там — все равно тебе придется узнать, сколько стоят твои посылки от Зангеля...
— Отец! Не тронь память Курта!
— Отец тут ни при чем, — зло отчеканил Аугуст, ощетинив короткие усы. — За дела твоего мужа и его нацистских друзей нам всем теперь приходится расплачиваться.
Берта, закусив губу, тихонько заплакала.
Седой старик, привязав углами простыню к выпрямленной ручке детской коляски, пробивался сквозь толчею. За ним поднимались люди и устремлялись к выходу. Не дойдя до двери, старик обернулся, вгляделся в мрачный угол, откуда ушел, загасив свою плошку.
— Матери! Жены! — крикнул он в толпу. — Помните эти скорбные дни! А те, кто останется в живых, пусть никогда больше не отпускают своих сыновей и мужей на восток. Там — русские!
Слышать его могли только те, кто стоял рядом. Задние нажимали. Старик повернулся и двинулся к выходу.
Двери открылись. В лицо пахнуло свежим воздухом, перемешанным с запахом сгоревшего тола и пороха. Но и этот воздух был во много раз легче подвального.
Аугуст Бенке, продвигаясь в толпе рядом с женой, поддерживал ее под руку. Узкая дверь не пропустила их вместе. Уступая дорогу, Аугуст чуть не сшиб радиоприемник, стоявший на двух чемоданах. Рядом сидела пожилая женщина в очках и тонких кожаных перчатках. Но лысого толстяка не было.
— Где твой муж? — зло спросил Бенке.
Женщина растерянно заморгала бесцветными глазами. Аугусту некогда было разговаривать с ней. Он и без того догадался, куда ушел ее муж, и с силой пнул отполированный «телефункен». Жена толстяка заголосила, но Аугуст уже поднимался из подвала по ступеням бетонной лестницы. Знал он, что толстяк убежал к офицерам жаловаться, но чем это кончится — никак не мог предположить...
Бои в Данциге продолжались уже более двух суток. И едва ли кто-нибудь из сражавшихся помнил, чем и когда начался этот день, так как понятия о вполне определенных частях суток перемешались: ночью от вспышек орудий, пожаров и осветительных ракет, от бороздивших небо широкими лучами прожекторов было светло, а днем от дыма все тех же пожаров, от взрывов, вздымающих в воздух целые участки мощеных улиц, от пыли и гари было сумрачно.
Конечно, природа исправно делала свое дело: своевременно опустились накануне сумерки, наступила ночь. За ней последовал рассвет весеннего дня... Но до этого будто никому не было дела. Казалось, бой, дым, гарь были здесь вечно и навечно останутся.
Батов лежал в воронке внутри двора недалеко от невысокого каменного парапета. Здесь совсем недавно стояла решетчатая металлическая ограда. В самом углу двора еще торчало одно ее звено. На всей остальной части решетка срезана. В некоторых местах она свалилась во двор, а кое-где упала на тротуар. Тут укрывались от огня пулеметчики взвода Батова.
Им и автоматчикам соседней стрелковой роты не давали опомниться немецкие крупнокалиберные пулеметы, установленные в амбразурах дома на противоположной стороне улицы. Оттуда же временами прилетали и рвались с особым треском фаустпатроны.
Пулеметный взвод вел беспрерывный огонь по амбразурам противника, но красноязыкие чудовища гремели и гремели оттуда.
Батов повернулся в воронке, оглядел свою шинель. Теперь уж никто не мог бы сказать, что это — шинель новичка: вся она была в пыли, в земле. Выправил полу шинели и... Огонь! Треск! Гром! Фиолетовые и красные перья пламени, перемешанные с дымом и землей, колюче ощетинились острыми концами вверх, образуя страшный букет.
Сзади и несколько в стороне от того места, где лежал Батов, стояла трансформаторная будка, за ней работали минометчики.
Батов протер глаза. Почувствовал боль в колене. Рядом валялся обломок кирпича. Будка, словно расхохотавшись, ощерила каменную пасть огромной трещиной, сдвинув крышу набекрень. Миномет замолчал. Его расчет полностью накрыло тяжелым снарядом. Дым от взрыва косматыми клочьями прятался за крышу дома.
В углу парапета, там, где над ним еще торчала железная решетка, сидел Кривко, набивая пулеметную ленту. Он видел, как в воронку к Батову летели кирпичи, и, согнувшись, побежал туда.
— Назад! На место! — крикнул Батов и замахал на него руками. Тот убедился, что командир жив, и вернулся.
Старший сержант Бобров горячился возле своего пулемета.
— Какого ты черта мажешь! — кричал он наводчику. — Меться прямо ему в хайло!
Но как ни старался Чадов целиться «прямо в хайло» крупнокалиберного «зверя», тот все метал и метал огонь в их сторону. Тогда Бобров оттолкнул Чадова, лег на его место. Сбив наводку, начал наводить снова. Он собрал все терпение, подвел мушку прямо под раструб, под огненный язык, нажал спуск... Но того, на что надеялся Бобров, не случилось. Адская машина продолжала работать с короткими перерывами. Тогда Бобров снова сбил наводку и повторил все сначала. Дал очередь. Ненавистное пламя, точно в него плеснули водой, погасло.
— Теперь поможем Оспину, — тяжело дыша, проговорил Бобров и развернул «максим» на крайнюю слева амбразуру, по которой вели огонь пулеметчики второго расчета. Но только что погасшее пламя опять высунулось ядовитым языком. Бобров заскрипел зубами. Дернул назад пулемет и сам попятился на руках, чтобы развернуться на прежнее место.
— Все равно замолчишь ты у меня, гад!
Бобров приподнялся на локтях и коленях. Разворачивая пулемет, вдруг покачнулся, ткнулся подбородком в серьгу на хоботе и, побледнев оглянулся на ногу.
— Уел, фашист, собака! — выругался он и пополз ближе к парапету.
Штанина выше сапога на ноге начала буреть от крови. Чуплаков-подносчик подполз к нему, разрезал ножом штанину. Выдернул из кармана индивидуальный пакет, разорвал его, наложил на рану.
— Ползти-то можешь, старший сержант? — спросил он.
— Перевязывай!
— А я что делаю! Поползешь вон там, возле забора. Мимо будки...
— Перевязывай, тебе говорят!
Бобров, прижимаясь к забору, медленно, чтобы меньше тревожить рану, пополз в тыл.
...Батов согнул ногу в колене — больно. Разогнул, снова согнул. Приподнялся на четвереньки. Сжался в комок и, хромая, пригнувшись, пустился в угол к Кривко.
— Трассирующие есть? — спросил он, падая под самый парапет.
— Есть. Вон сколько, — указал Кривко на коробки с патронами. — Хоть выбрасывай, куда их...
— Я т-тебе выброшу! Через каждые двадцать патронов ставь пять трассирующих, чтобы лучше взять цель.
— Слушаюсь.
Только тут Батов заметил, что орудийный огонь от дома прекратился, зато откуда-то сверху начали падать фаустпатроны.
— Эх сыпет так сыпет! — съежившись у парапета, говорил Крысанов. — От этого не спасешься.
— С верхнего этажа, что ли? — спросил Батов.
— Какой тебе — с верхнего! Мины это! — прокричал Крысанов. — Не видишь, чего рвется? Из-за дома кидает.