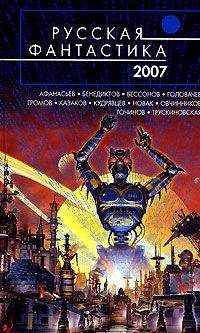– Без меня тебя ж, дурака старого, ещё убьют, – не обижался Николай Титович. – А с кем я потом табачком делиться должон? С кем чарку пить стану?
– Доживи лучше, Колька. Ермоле помоги. Он же на звук стреляет. Слышь, матом кроет… патроны зря переводит.
И правда, сам старик после каждого выстрела так матерился, обкладывал немцев такими матами, что материализуйся матюги, от немцев не осталось бы и следа. Но не забывал костерить и себя.
– Твою гробину седёлки, хомуты и оглобли мать нехай! В печёнки, селезёнки, подхвостницу и прочую требуху гробину мать! Да что ж это за глаза, что ни хрена не видят, окаянные?! Кила вам бок! Резь в животе на всю жизнь, понос кровавый, немчура проклятая! Это что за война, что ворога не вижу, пуляю в белый свет, как в копеечку?! Подь поближе, сучий потрох! Скочь на штык, курва! Проткну! Нанизаю!
Старик плохо видел, щурился, выискивая врага, но лишь мелькание тёмных силуэтов вдали принимал за цель, настраивал винтовку приблизительно в ту сторону, стрелял, приговаривая:
– Кабы ближе подошли, я бы вас, антихристы, ещё как понанизал бы на штык, прости, Господи. Там бы точно не промахнулся…
Штык, он не пуля. Он… штык!
Получив организованный отпор, немцы не стали больше атаковать, отошли на исходные позиции, и через какое-то мгновение на островке стали взрываться мины. Они ложились кучно, одна за другой, с равными промежутками времени, вздыбливая землю, выбрасывая наружу грязь, торф, образую неглубокие грязные ямки, которые тут же наполнялись водой.
Первые мины взорвались на обратной стороне островка, там, где лежали тяжелораненые партизаны. Тела несчастных, разбросанные взрывами, валялись то тут, то там. Дядька Ермолай первое время ползал, собирал трупы, стаскивал в ближайшую воронку, пока его самого не подняло, бросило взрывом под куст лозы на краю суши.
Кузьма уже не слышал выстрелов винтовок из глубины острова: они прекратились. Переползая от Никиты Ивановича к дяде Ефиму Гриню, он увидел, что на месте окопов второй линии обороны зияют глубокие ямки, наполненные тёмной болотной жижей. Сами партизаны лежали недалеко от брустверов в неестественных позах.
Одной из крайних мин Кузьму отбросило к окопу Никиты Ивановича Кондратова, что давно лежал без признаков жизни лицом в грязной луже, не выпуская из рук уже совершенно не нужную ему винтовку. Тело Кузьмы Даниловича положило рядом, неудобно подогнув окровавленную голову командира, облив её грязью, кусками торфа, вывернув наружу раздробленные кости и без того раненой ноги.
Когда миномётный обстрел прекратился, немцы снова пошли в атаку на Большую кочку. К этому времени никто из защитников островка сопротивления не оказывал, стреляла только винтовка Ефима Гриня. Редкие, но меткие выстрелы достигали цели. Однако они уже не могли остановить наступление фашистов на маленький клочок суши среди болота.
Ефим отложил в сторону винтовку – кончились патроны, достал гранату.
– Фи-и – имка-а! – донеслось до него со стороны окопа Данилы. – Фи-и – имка-а!
Гринь ужом заскользил к другу.
– Фимка, – Данила лежал за бруствером своего окопа в неглубокой воронке, на бледном, грязном лице застыла виноватая улыбка.
Оторванная у плеча правая рука болталась на кусках тряпки и чудом сохранившихся сухожилиях, рядом валялась винтовка.
– Фимка, а я боялся… что ты не услышишь… не придёшь, – на последнем дыхании выдавил из себя Данила, с трудом, но всё так же виновато улыбаясь. – А я не могу… себя… гранату… рука… мина… вот, – и заплакал вдруг.
Лицо исказила гримаса боли, сморщилось, слезинки одна за другой скатывались по грязному, давно не бритому бородатому лицу.
– Данилка! Даник! Да как ты мог подумать?! Да-а – аня-а! – Ефим лёг рядом, прижал к себе голову друга, судорожно гладил его по спине. – Да-а – аня-а! Я с тобой, Даня, я рядом, – шептал исступленно. – Я же всегда-всегда с тобой, Даник. Ты же знаешь.
– Вот и ладненько, вот и хорошо, Фимушка, я знаю, я всегда знал, что ты рядом, Фимка, – совсем как в детстве отвечал ему Данила, шмыгал носом, благодарно и доверчиво, с радостью уткнув лицо в широкую грудь товарища.
Когда немецкий солдат коснулся носком грязного сапога сплетённых в объятиях тел, раздался взрыв гранаты, что до последнего мгновения лежала между двумя самыми близкими, самыми верными и надёжными друзьями.
Дядька Ермолай пришёл в себя, и сейчас сидел, лапал руками по груди, животу, ногам, прислушивался к себе, крутил гудящей колоколом головой. Вроде целый, только вот голова… Вокруг него валялись тела его подопечных. Вспомнил всё, встрепенулся, поискал глазами своих товарищей. На той стороне островка обнаружил стоящих толпой немцев. Схватил винтовку, провёл рукой по штыку, очистил от грязи. Опираясь на оружие, с трудом поднялся. Постоял так, привыкая к вертикальному положению, вскинул винтовку как для штыковой атаки, левой рукой ухватив цевьё на стволе, а правой – сильно прижал за шейку приклада к стариковскому боку, двинулся в сторону врага. Шёл, стараясь идти уверенно, твёрдо, как на плацу ставить ноги, но у очередной воронки споткнулся вдруг, упал на дно ямки в жижу.
Молча опять встал, снова прижал винтовку, нацелив штык на стоящих немцев, что с интересом наблюдали уже давно за этим странным стариком. Они даже не пытались расступиться, уклониться от этой в высшей степени безрассудной и совершенно не опасной и не страшной для них штыковой атаки старика, что с отчаянной решимостью на грязном лице приближался к ним.
Стояли и наблюдали, и, как солдаты, понимали старого служаку, увидели в нём настоящего воина, бойца.
Дойти! – было написано на лице мужчины. Дойти и умереть в бою, в схватке с врагом! – это была самая высшая цель, самая главная обязанность в этот момент жизни у бывшего помощника полкового коновала-мастера, ветеринарного фельдшера из затерянной в лесах, выжженной дотла деревеньки Пустошки Борткова Ермолая Фёдоровича, волею судьбы поменявшего труд крестьянина-хлебопашца на такой же не менее благородный труд защитника своей земли. И ту и другую работу он исполнял с полной самоотдачей, не жалея себя. По – другому не мог и не умел. Это было его образом жизни. Труженик и воин, хлебопашец и защитник Родины – в этом был весь Ермолай Фёдорович, простой русский мужик. Вот и сейчас он остался верен себе.
И враги зауважали своего противника! Они не смеялись над ним, почувствовав в нём равного себе бойца, а может быть и в чём-то превосходившего их.
Тот, немолодой уже немец, что стоял в стороне от толпы сослуживцев, чуть повёл в сторону деда Ермолая автоматом. Он раньше всех понял истинное желание пожилого солдата, пошёл ему навстречу.
Старик не успел дойти до врага в своей последней штыковой атаке каких-то пяти шагов.
Расправившись с партизанским заслоном, а затем и с партизанами на маленьком островке вначале болота, немцы убедились, что живых защитников больше не осталось, покинули его, прошли вслед ушедшему в глубь партизанскому отряду с километр, но вынуждены были вернуться обратно, прекратить преследование. Огромное, тянущееся не на один десяток километров среди лесов, болото и на самом деле оказалось для фашистов непроходимым.
Немцы не пожелали задерживаться в лесу ещё на одну ночь, стали сворачиваться, и уже после обеда, ближе к вечеру организованно направились к местам дислокации в Борки и Слободу.
Зависший над топями немецкий самолёт-разведчик обнаружил народных мстителей слишком поздно: лишь на третий день.
Смяв небольшие заслоны из солдат румынского батальона на выходе из болота в соседнем районе, партизанский отряд Лосева Леонида Михайловича растворился в лесах.
Снова удары в било оповестили жителей Вишенок: что-то случилось?!
Выползали из землянок, шли на площадь, поминутно спрашивая друг друга: что на этот раз? Какая беда снова нависла над их головами? Или наконец-то услышат самую радостную весть, которую ждут почти три года, теряя родных и близких? Родных и близких теряли, но её, веру, что придёт, вернётся Красная армия – не теряли. Верили и надеялись, свято верили и надеялись, что придёт родная советская власть, а с ней вместе вернётся и лучшая жизнь, и радость, и счастье придут в каждую землянку, в каждую семью, к каждому человеку. Что солнышко заглянет и к ним под землю. Верили и надеялись. С тем и жили. Вот и сейчас шли и наделись… А вдруг?!
Дядька Аким Козлов уже был на площади, стоял, опершись на батожок, терпеливо ждал односельчан, топтался на месте. Вокруг него бегала малышня, радая, что наконец-то вырвалась к сверстникам из опостылевших землянок.
Сегодня с утра он вышел из землянки, собирался сходить на Деснянку, проверить мордушки: вдруг рыбёшка зашла? Со стороны леса в деревню в это время заходили полицаи, что возвращались после блокады партизан. Один из них задержался на минутку, заговорил.
– Подь сюда, человече, – подозвал к себе Акима.